Chapter 1: Октябрь
Chapter Text
— Gwenhwyfar.
Это слово звучало особенно четко — и именно так, как слышала Гвиневра.
Она смотрела в невидимый потолок. В темноте казалось, что воздух над ней — это тяжелая плита. Плита приподнималась и опускалась с каждым вдохом и выдохом.
Гвиневра не сомкнула глаз. О том, что Ланселоту снятся кошмары, она могла бы и догадаться — задолго до того, как впервые легла вместе с ним в одну постель, чтобы вместе проснуться.
Он мучительно содрогался и скрежетал зубами в бездне, куда провалился, заснув. В этой же бездне видел кого-то или что-то и называл по имени.
— Gwenhwyfar.
Многих слов Гвиневра не понимала — даже не была уверена, что правильно их разобрала. Многие слова и не требовалось разбирать: они означали прошлое, из которого Ланселота вырвали Красные Паладины, чтобы обратить в свою веру.
Слова на языке фэй, застрявшие в памяти со времен, о которых он уже не помнил.
Она села на постели, внимательно рассматривала его лицо. В темноте казалось, что оно изодрано и кровоточит. Гвиневра безотчетно ощупала подушку — сухая.
Ланселот снова содрогнулся всем телом, словно его ударили, и Гвиневра вспомнила о чудовищных шрамах.
Следовало разбудить его, но она только сидела рядом, медленно и глубоко дышала. Знала, какие кошмары приходят к людям, которые видели слишком многое. Знала, как они смотрят на тех, кто вырывает их из кошмара — как на единственное спасение.
Она не хотела увидеть такой взгляд у Ланселота. Это унизило бы их обоих.
У него вырвался стон и еще несколько бессвязных слов.
Гвиневра слушала и думала, что убила бы Кардена еще раз, если бы он уже не был мертв. Она часто думала об этом, глядя на Ланселота — спящего или бодрствующего, неважно.
Она спустила ноги с постели, подхватила покрывало. Выбралась в холод остывшей комнаты, напрасно поворошила кочергой остывшие угли в очаге. Пахнуло жженым деревом, красная лента мелькнула среди угольев, но теплее не стало.
Гвиневра тихонько вышла из комнаты.
У двери, прижимая к груди нож в ножнах, сидя спала Пим, и в ногах у нее трепетал огонек масляной лампы.
— Сторожишь меня или его? — неприязненно спросила Гвиневра.
Пим проснулась, неловко вскочила. Огонек затрепетал, словно не знал, куда бежать. Пим заспанно моргала, усердно стряхивала с юбки невидимую пыль.
— Ну?
Пим молчала. Опустила глаза, словно искала дыру в каменной плите. Наверняка их было полно, потому что взглянуть на Гвиневру снова она не решалась.
— А он-то, дурак, жизнь твою спас.
— Повезло тебе, что ты его раньше не знала, — сердито сказала Пим. — Слушай, я рада, что у тебя есть человек для сердца. Но я не могу забыть, кто он…
— Его зовут Ланселот.
Пим поджала губы. Будь ее воля — язык бы себе откусила.
— Слушай, не мое это дело...
— И правда, — ледяным тоном отозвалась Гвиневра. — Не твое.
— Но Артур — наш избранный король.
— Вот пусть и будет вашим избранным королем.
— И он считает Ланселота другом.
— Ланселот — его друг. Он не раздумывая отдаст за Артура жизнь.
— А ты — нет.
— Что именно?
— Ты не друг Артуру.
— Нет.
— Как все это могло случиться? — жалобно спросила Пим.
Гвиневра пожала плечом. Стоять в одном покрывале на промозглом воздухе становилось все неприятнее. Холод от босых ступней поднимался к бедрам. Она поджала пальцы.
— Спроси Артура. Он же ваш избранный король.
Она взялась было за дверную ручку и остановилась.
— Что значит «гвенхвивар» на языке фэй? — незнакомое слово Гвиневра выговорила тщательно, почти по слогам, не особенно надеясь, что получилось правильно. В голове звучал голос Ланселота, но повторить ему в такт было задачей непосильной.
Сбитая с толку, Пим молчала и бестолково вертела в руках нож. Потом сунула его за пояс.
— Твое имя среди нас. «Белый призрак».
— Во мне ничего белого, — Гвиневра очертила в воздухе собственное лицо.
— Но ты из белой земли.
Гвиневра повела носом. Пим прочистила горло и сделала еще одну попытку:
— Слушай, я твой друг...
— А еще ты друг вашей Волчьей ведьмы. Тяжело, когда столько друзей, правда? — Гвиневра буравила ее взглядом. — И Артур — ваш избранный король, я помню. Только Ланселот — паршивая овца в этом дружеском стаде.
— Но...
Гвиневра отмахнулась, вернулась в комнату, прокралась к постели. Ланселот так и не проснулся. Лицо у него было неестественно напряженным — будто не спал, а шел в битву.
— Ш-ш-ш, — Гвиневра погладила пепельные борозды. Они были шершавые, как ожог. — Никто меня не заберет.
Три дня назад они разругались.
Теперь Гвиневра не могла бы толком пояснить, что именно вывело ее из себя — но тогда, посреди площади, вся в красных пятнах от гнева, она слушала болтовню торговок — мол, Плачущий Монах никак не отлепится душой от старых привычек: тайно крестит в веру своего бога в старой часовне, а потом еще и поучает новообращенных смирению да молитве, — слушала, а перед глазами поднималась темнота...
Гвиневра рассвирепела. Рявкнула так, что сплетницы и их товарки бросились врассыпную:
— Где это место?! — и так бесновалась, что никто не посмел утаивать.
Часовня оказалась всего лишь святилищем кого-то из старых богов Британии — может, рогатого Цернунна, может, громовержца Тараниса, может, того самого Сокрытого, может, богов старого Рима, что требовали и требовали жертвы оловом от далеких берегов. Крышу посланники Папы пометили деревянным крестом: две палки, связанные металлической нитью. Внутри в сыром воздухе мерзко, сладковато пахло ладаном, трупный запах щекотал горло — так воняли тела римских священников, которые лишь отчасти целыми довелось выгрести из подвалов и подворотен тогда еще Грамейра, не Камелота. Вонь забралась ей в ноздри, в волосы, под одежду, налипла на кожу. Гвиневра со злости плюнула на алтарь и смела на пол нехитрую утварь, расставленную на нем: медную чашу, подсвечник, рукописную книгу, нож, резанный из бука крест с распятым божьим сыном… Как будто этот хлам превратит нагромождение камней в истинный дом бога.
Потом она велела подкатить стенобитное орудие и снести жилище, познавшее слишком многих богов, чтобы обратиться к единственному.
Ланселот примчался, когда рушилась крыша: от удара тараном камни пошли сыпаться сразу же, будто строительный раствор между ними истлел, а изнутри их сточили трутни.
— Стой! — Он бросился наперерез тарану, закрыл собой последнюю шаткую стену.
Гвиневра дала знак людям замахнуться. Оголовье тарана — бронзовая голова змея с оскаленными клыками — нацелилась Ланселоту прямо в грудь.
За спиной у нее пронесся ропот. Зеваки, собравшиеся таращиться на то, как женщина рушит вместилище бога Папы и Красных Паладинов, — рогатые, хвостатые, в чешуе и с гладкой человечьей кожей — отхлынули назад, вокруг сразу стало пусто, свободно. Можно город построить.
Ланселот не шевельнулся.
Рука у нее дрогнула и упала, словно у руки была собственная воля. Будь воля у Гвиневры, она бы такую руку отсекла.
Ланселот будто обескровел — до того бледным стоял перед ней, и пепельные борозды казались черными, словно огромная птица хватила когтями по лицу.
До чего же жалкими они оба были тогда.
— Давай, — Гвиневра с презрением пнула откатившийся из общей груды камень, — поищи в этой трухе свои игрушки.
— Ты зачем это сделала? — закричал Ланселот. Видно, по-прежнему почитал своего всемогущего христианского бога, и глаза у него наливались кровью от явственно сдерживаемого желания крушить все вокруг — а может, от невыносимой боли. — Тебе какой был вред?!
Гвиневра внимательно послушала его крики, развернулась и ушла. Ей не хотелось спорить, кого и как почитать на небесах.
Потом она поняла, что зацепила в душе Ланселота что-то глубокое, глубже моря, такое, о чем сам он хотел бы не думать, зацепила, и ободрала, и бросила его с оголенным мясом и костями корчиться на виду у всех.
Чтобы понять, глубже ли это того, что между ними, она стала искать его, но Ланселот исчез. Она постояла на пороге его дома, явственно пустого, и думала: что если глубже?
Ланселота не было два дня; и когда он вернулся, Гвиневра, к своему удивлению, совсем не обрадовалась. Он прошел прямо к ней, как будто никого вокруг не было, через наполовину вспаханное поле, которое крестьяне, и горожане, ставшие крестьянами, и моряки, ставшие крестьянами, готовили к посеву озимой ржи. Губы плотно сжаты, брови сдвинуты, лоб вздулся от слишком долгих и трудных размышлений.
Гвиневра сложила руки на груди.
— Что, — сказала она, — твой всемогущий и милосердный бог повелел прощать?
Ланселот не ответил, только покачал головой, беззвучно посмеиваясь, и взялся за вилы, чтобы снова и наравне со всеми копать, выдирать сорняки, ворошить траву, чтобы поднять перепревшую в стогах и раскидать поверх засеянных борозд, и Гвиневра, понимая, что разговора не будет, взялась за вилы тоже. Пахотных лошадей в Камелоте не держали — только боевых, и тех малым счетом, а боевой конь для рабочей упряжи не годился; так что они работали чуть впереди ряда крестьян и бок о бок — молча, размеренно: вонзить вилы в землю, втолкнуть ногой, вывернуть, обтрясти, вонзить в землю, втолкнуть ногой, вывернуть, обтрясти. Пока так тянулось борозда за бороздой, до конца поля и обратно, вся злость стерлась, вышла вместе с потом и ударами зубьев о неподатливую землю, которую давно уже никто не просил и не принуждал плодоносить, а в гудящих от натуги руках и ногах не осталось сил сопротивляться или двигаться навстречу чему-то. Тогда они разом подняли головы, оперлись крест-накрест руками о черенки вил, и взглянули друг на друга, и улыбнулись, никак этого не показывая.
Ей нравилось видеть Ланселота в мирной жизни, нравилось смотреть, как он работает — четко, рассчитывая силы, нравилось представлять, каким он мог бы стать, если бы Красные Паладины не разорили эту землю. Тогда ему не требовалась бы ни постоянная война, ни жизнь во искуплении. Пахал бы себе землю, бросал в нее зерно, укрывал от бури побеги и пожинал бы плоды... Гвиневра представляла это — и отбрасывала образ раз за разом.
Все равно что она села бы на Ледяной трон и не была бы сейчас в Британии, в Камелоте, и драккар ее был бы цел. Не было смысла лгать себе: что она полюбила в Ланселоте, вселил Карден — пусть Гвиневре и хотелось убить его каждый проклятый раз, когда она видела, как это происходило.
У них была бы совсем другая жизнь, в которой они, скорее всего, даже не встретились бы. Десяток тронов и еще один она бы отдала, чтобы их пути никогда не разминулись.
Потом они сели на оставшийся нераспотрошенным стог, и какая-то деревенская девчонка по виду лет десяти, до того беленькая и бледная, что не разобрать, какого народа, принесла Ланселоту краюху свежего хлеба и крынку парного, желтоватого от сливок, густо пахнущего молока, от которого дохнуло теплом, стоило откинуть полотенце.
— Мне? — удивился Ланселот.
Девчонка быстро закивала, переступила с ноги на ногу и сунула руки в карманы передника.
— Спасибо, — Ланселот подержал крынку на весу. — Как тебя зовут?
— Элейн, — стесняясь, прошелестела девчонка. Глянула на него из-под белесых ресниц и залилась краской. Брови у нее были двумя едва заметными полосками.
Гвиневра хмыкнула, принялась ножом счищать землю с подошвы.
— Спасибо, Элейн.
— Отец мой сказал вам отнести, — еще тише прибавила девчонка. — Я сама корову доила.
— Передай поклон своему отцу. Сама есть не хочешь?
— Мы отобедали, господин. Отец решил, нехорошо, что ты голоден.
Гвиневра едва не выронила нож и воззрилась на девчонку. Когда это Ланселот успел покорить этих людей и человекоподобных? Когда это к нему обратились их сердца и мысли? Давно ли Камелот ускользнул от ее внимания и зажил своим умом, когда не требуется больше направлять и подсказывать? Выходит, этого им не хватало, чтобы раскрылись глаза и уши — нескольких выкорчеванных сорняков?
Позднее солнце грело вспотевшую спину. Переговаривались крестьяне: фэй на своем, люди на своем — и как-то понимали друг друга. Скулила чья-то собака, а может, щенок. Земля исходила запахами кореньев и трав, дождевые черви зарывались в новые норы взамен разоренных.
— Можно мне угостить королеву? — спросил Ланселот.
Девчонка подняла глаза и заморгала.
— Конечно, господин.
— Я не господин, — он разломил хлеб — ноздреватый, пышный, с чуть кисловатым духом закваски — обернулся и протянул половину Гвиневре. Потом подмигнул девчонке: — Зови меня Ланселот, Элейн.
Она сделалась совсем пунцовая, торопливо присела перед ним в неуклюжем поклоне и стремглав бросилась прочь.
Гвиневра смотрела ей вслед, щипала хлеб, сминала мякиш пальцами в упругие комки, выкладывала рядом с собой и задумчиво обкусывала губы, пока не начали кровить. Ловко у Ланселота выходило с детьми — обвыкся рядом с Персивалем, не иначе...
Он подсел к ней ближе, чуть пихнул локтем в бок. Гвиневра скупо улыбнулась. Преломленный хлеб знаменовал окончательное примирение.
— Почему ты ушел? — спросила Гвиневра позже, когда в долгом поцелуе они выпили дыхание друг друга.
— Потому что злился на тебя.
— А почему вернулся?
— Потому что перестал злиться.
Она самодовольно хмыкнула.
— Правильно. Злиться на меня никакого проку.
Он снова потряс головой, но не стал говорить Гвиневре, что у нее нет жалости.
Ей хотелось произнести другие слова взамен уже сказанных, но язык, будто связанный, не поворачивался.
— Отдохнем завтра, — тон ее не предполагал возражений.
— Что делать станем?
— Поохотимся.
— На кого?
— На рыбу.
— Кто же охотится на рыбу?
Гвиневра уставилась на него с веселым недоверием.
— Как? Ты ни разу не охотился на рыбу с гарпуном?
— Меня растили монахи, забыла? — он засмеялся. — Я о мирской жизни ничего не знаю.
Ранним утром, когда над горизонтом только-только ослабело зарево, они вышли к Аску. Рекой еще владел туман, покрывал ее, медленно колеблясь, как утомленный любовник. Вода была сокрыта, и берег застилало клочковатое молочное полотно. На траве лежала роса — тоже молочная, мутная и круглая, как речной жемчуг. Ноги проваливались в отсыревший песок, и сапоги очень быстро пришлось снять. Босиком Гвиневре было даже проще, так пальцы чувствовали каждую зазубрину и выбоину, а занозы она потом вытащит. Ланселот спустился к берегу, потянул за канат. Темное пятно выплыло на них, придвинулось, обрело очертания плоскодонки с острым точеным носом. Он ткнулся в песок, Гвиневра бросила на дно гарпун и сумку, легко скакнула через борт — лодка даже не качнулась. Ланселот отвязал канат, примерился, чтобы повторить, плавно прыгнул с берега. Лодка не шелохнулась, вода тоже. Гвиневра сощурилась, обозначив улыбку, взяла весло, уперла в речное дно и столкнула лодку с места. Редко перебирая беззвучную воду, повела лодку к середине реки.
— Кто тебя править учил? — почему-то шепотом спросил Ланселот. Он сидел, обхватив колени руками, и смотрел снизу вверх.
— Мать, — Гвиневра улыбнулась. — Она правила, я смотрела и запоминала. Вот как ты, сидела и смотрела…
— Моя ничему меня научить не успела. Я даже представить не могу, какая была она, или отец, или братья… были они вообще или нет.
Гвиневра молча разрезала веслом воду.
— Ты тоскуешь по ним? — спросила как умела мягко. Кажется, она спрашивала уже об этом. Или же нет.
Ланселот пожал плечами.
— Я не помню ничего, о чем я могу тосковать? Дело не в том, что я ничего не знаю о них, дело в том, что из-за этого я ничего не знаю о себе.
Туман рассеяло позднее сентябрьское солнце, и он втянул свои молочные когти, открыл воду. Лодка стояла уже посреди реки, лишь едва качалась: Аск сегодня был смирен, словно шел в поводу.
— Не шевелись, — Гвиневра положила весло и взамен взяла гарпун. Выпрямилась, высматривая добычу; та пряталась над самым дном, в тени, отброшенной лодкой. Потом на глубине что-то дрогнуло. Гвиневра занесла руку с гарпуном и застыла — взгляд то пронзал воду, то скользил по поверхности, следил, как прокатывается рябь и как сбиваются подводные течения, когда в них скользит рыба.
Гарпун молниеносно вонзился в воду и вырвался вверх — только блеснул наконечник, поймав отраженное солнце.
Лосось забился на острие, хлестал себя хвостом и плавниками, таращил безумные от боли глаза; Гвиневра уперла древко в днище лодки, содрала еще живую рыбину с наконечника, ножом вспорола брюхо и выпотрошила внутренности. Пошарила в поясной сумке, высыпала щедрую щепотку соли на свежее, еще трепещущее мясо и вонзила крепкие зубы. Заглотила, почти не жуя, и обернулась к Ланселоту:
— Хочешь?
По подбородку у нее стекала рыбья кровь, на щеку налипла чешуя. Ланселот смахнул их, скользнул пальцами по шее на ключицу, стиснул ее плечо. Гвиневра выронила лосося, подалась вперед, запрокинула голову, и Ланселот впился губами в ее смеющийся рот. Она ответила торопливо, горячо, ее руки, красные и скользкие, сплелись на его шее. Он опустился на колени, и Гвиневра последовала за ним. Она опрокинулась на спину, и Ланселот последовал за ней. Гвиневра выпуталась из штанов, стянула с него рубаху, оставила ему снять остальное, скользнула вниз, жадно хватая губами шею, ключицы, соски, выгнулась в пояснице и охнула, когда он вошел в нее — одним движением, похожим на удар. Макушкой она стукнулась о банку, через мгновение Ланселот подставил ладонь, другой уперся в дно лодки поверх плеча Гвиневры. Она проскользила ладонями по распаханной шрамами спине Ланселота, повисла на шее, запрокинула голову, жмурилась, подставляя губы губам и отыскивая языком язык. Мир раскачивался — над ней, под ней и в ней, проникал в кровь волна за волной, и она нетерпеливо раскрывалась навстречу. Напряжение во всем теле разрешилось в несколько судорог. Она снова подставила губы и беззвучно впитала стон Ланселота. Улыбнулась, когда он лег рядом, сбивчиво дыша, сжимая и разжимая пальцы на ее бедре, словно недобрал свое, даже все заполучив. Гвиневра повернула голову, уткнулась лбом в его мокрую от пота грудь и обессиленно выдохнула, чувствуя себя бестелесной и свинцово тяжелой разом. Качался за бортами Аск. Ланселот лениво перекинул руку, зачерпнул воды, плеснул себе на лицо, несколько капель уронил Гвиневре на щеку. Набрал воздуха в грудь, но ничего не спросил.
Она поймала его руку и переплела пальцы.
Артура в их мире не существовало — Гвиневра не позволяла. Но во всем остальном мире Артур, изгонитель римлян, победитель тирана Пендрагона и Камбера Ледяного Короля, бывший вор и наемник, был реальностью, с которой невозможно было не считаться — и эта реальность должна была вернуться в Камелот.
Chapter 2: Ноябрь
Chapter Text
Они явились к нему на закате прямо со своего языческого праздника: толкались на пороге, перебивали друг друга, не то требовали, не то просили. Не решались войти, словно внутри их поджидала смерть. Народ, который Ланселот должен был, но не мог признать своим. За их спинами тлело солнце, сползала с крепостной стены тень и вольготно растягивалась поверх города.
Они рокотали на своем полузверином, желтые клыки влажно блестели от слюны, потеки синей, черной и красной краски тянулись по лица и телам. Персиваль что-то ответил — на такой же смеси лая и скрежета — и повернулся к Ланселоту.
— Они к тебе пришли. Хотят, чтобы ты выбрал негодный скот, который не переживет зиму. Чтобы забить сегодня ночью — обычай такой. На Самайн всегда так.
Ланселот растерялся. Незваные гости так и стояли в дверях. Нехитрая мебель в его доме была расставлена вдоль стен, он стоял в середине, в мутном свете, просеянном через рыбные пузыри на окнах, — словно, сам того не зная, на ристалище призывал помериться силами.
— Почему я?
— Они знают, что ты читаешь землю и видишь лес. Думают, ты и скотину так увидишь.
— Я никогда не… проверял зверей. У них, — Ланселот кивнул на дверь, там так и мялись трое или пятеро, с опаской заглядывали в жилище Плачущего Монаха, — разве своего зрения нет?
Персиваль помотал головой. В дверях выжидательно смотрели, гадали об ответе.
— Я понимаю больное дерево, но про скот я ничего не знаю.
Персиваль насупился.
— Слушай, просто соглашайся. Ткнешь в скотину поплоше, делов-то…
Ланселот снова посмотрел на непрошеных гостей и медленно кивнул.
Это оказалось не сложнее, чем с деревьями: на коже проступало что-то вроде тавра, напоминающего наскальные рисунки, то ярче, то бледнее — порой не там, где ожидал Ланселот, не над всякой тощей коровенкой, а над здоровым откормленным животным, и тогда сложнее всего было объяснить перепуганному хозяину, что его свинья, или овца, или корова уже носит в себе какую-то болезнь и неизбежно — и скорее всего внезапно — умрет.
— Это моя единственная корова, господин. Моя кормилица...
— Я не господин. Забьешь ее сейчас, и у тебя будет мясо на зиму. А весной королева даст тебе теленка из здорового потомства.
После отбора пришло время казни. Уложенные шатрами костры стояли рядами, словно войска выстроились, готовые принять приказ, покуда их медленно обходили с факелами. Верещали свиньи, ревели бараны, блеяли овцы и козы, быки тянули свое мучительное «му-у-у». Удар за ударом подламывались колени животных, каменные топоры дробили кости, срубленные головы скатывались в курган, женщины с ножами бросались свежевать, дети пилили ценные рога, которым предстояло пойти на новые ножи, украшения, обереги; секиры вскрывали ребра, чтобы можно было извлечь самое ценное: сердца и печень, вещуны и ведуньи склонялись над распоротыми брюхами, чтобы прочесть будущее по расположению внутренностей, потом подростки и дети тащили разделанные туши к кострам, насаживали на вертела и водружали над огнем. Визг животных наконец прекратился. Запахи требухи и вареной крови сгустили воздух, их перекрыло волной вони от паленой шерсти там, где плохо содрали шкуры…
Ланселот с трудом мог поверить, что его предки — даже его родители — были частью всего этого, так же прыгали через костры, выгребали обжигающую еще золу из прогоревших, набирали в ладони кровьиз разрубленных шей скота, чтобы брызгаться друг в друга. Небо горело в кострах, становилось цветом как головешка. Странная пронзительная музыка неслась со всех сторон, ее было не назвать печальной, но резкие протяжные звуки, смешиваясь с треском огня, напоминали скорее о потере — о том самом отклике на зов ушедших, и скорее всего не своей волей, поколений — который Ланселот в себе не находил.
— Думала, всемогущий господь запретит тебе прийти, — фыркнула Гвиневра из ниоткуда, но где-то рядом с ним. — Что-то он бы тебе сказал, а?
Он обернулся. Ее темные глаза шало сверкали, должно быть, угостилась у фэй элем, сваренным из солода и полыни. Наверняка и скотину забивала со всеми.
— Пим сказала, это будет весело.
— Ну и как, весело тебе?
— Без тебя — не очень-то.
Она шагнула к нему среди костров, пепла, раскрашенных лиц, диких плясок и криков, в запахе горелого дерева, чадящих трав, жира, стекающего с забитого скота, который вялили, жарили, коптили над десятками огней на травах и ольховой щепе, красная и золотая, в бронзе и в серебре. Ланселот подхватил ее на руки, вынес из беснующегося празднества, глубину которого все равно не понимал и в котором Гвиневра была такой же чужой, как он сам, в волглую темноту, куда надышали теплом костры. Здесь, где кончались крики, начинались стоны и просьбы, сплетенные тела; он не знал, куда девать глаза, и Гвиневра скользнула из его рук на землю, схватила за запястье, повлекла за собой. Он вспомнил белое платье, кропленное кровью Троицыных стражников, ее босые ноги на смятой траве; она, должно быть, жила той же памятью, потому что привела его к забытому на время хергу своих северных богов. Или не такому забытому, как казалось на первый взгляд; над чашей курился бледный прозрачный дымок, высоко над ним раскинулось небо в булавках звезд. Здесь стояла почти звенящая тишина, молчаливые сполохи костров мелькали далеко между черными столбами деревьев, подпирающими крышу невидимого храма.
Гвиневра обернулась. На мгновение взяла обе ладони Ланселота в свои. Ее пронизывала дрожь. Бездонные темные глаза сияли.
Она пихнула его обеими руками в грудь, Ланселот не ожидал — ему никогда не удавалось угадать ее намерения — и попятился, уперся в неровную каменную плиту. Гвиневра прильнула к нему, припала губами к шее, торопливо дергая застежки на его куртке, на штанах. Он обхватил ее обеими руками, почувствовал, как мечется сердце. Гвиневра вздернула вверх его рубаху, прижалась губами к груди. Опустилась на колени. Змеиный след ее языка потянулся вниз. У Ланселота постыдно ослабли колени. Ладони Гвиневры легли ему на бедра, ее рот казался обжигающе горячим. Его грудь стала кузнечными мехами, в голове, как в горне, взревело ледяное пламя. Слова и стоны встали у него поперек горла. Ланселот схватился за ее влажные от пота волосы, словно тонул в земле, подернутой папоротниками и увядшей подмороженной наперстянкой. Он запрокинул голову. Булавки звезд развернулись и все разом впились в его тело.
Персиваль заявился домой под утро. От него несло кострищем, дымом, золой, паленым мясом. Круглая физиономия, перемазанная зеленой краской из толченой крушины, была сонной, одежда испорчена — где подгорела, где пропиталась кровью животных так, что задубела, где ее забрызгало жиром, когда Персиваль лез к костру поближе, надеясь на лакомый кусок и бравируя тем, что он теперь — Зеленый Рыцарь.
Ланселот молча принялся отмывать его. Персиваль сонно, путаясь в словах, невпопад бормотал что-то о явлении Сокрытого, о том, что бог фэй доволен, о том, как весело праздновать Самайн, как взрослому, и Ланселот даже знать не хотел, что означали эти слова.
Потом окончательно разморенный Персиваль улегся в постель, зарылся в одеяла и шкуры. Пролежал так достаточно долго, чтобы Ланселот решил, что он заснул, и вдруг сел.
— Как думаешь, у меня хорошо получается? — спросил он.
— Получается что?
— Быть Зеленым Рыцарем.
— Думаю, у тебя получается все лучше.
— Говорят, что на его могиле не увядает трава и круглый год цветет бессмертник, — доверительно сообщил Персиваль. — Это подарок королевы фэй.
Ланселот вспомнил уцелевший зеленый глаз, наполовину скрытый мокрыми липкими волосами. Вязкие капли крови, стекающие с подбородка. Может, он глядит на Ланселота до сих пор, и оба глаза его здоровы, потому что Сокрытый усадил самого достойного из фэй рядом с собой — хотя это, конечно, поступок Христа…
«Брат, ты можешь стать нашим первым воином, я никогда не видел подобного», — так он сказал.
— Гавейну не нужны были подарки при жизни, а после нее — тем более. Он делал то, что считал правильным. Пожертвовал собой ради фэй.
— Нимуэ пожертвовала собой ради фэй.
Ланселот не стал спорить. Прежде чем жертвовать собой, Нимуэ пожертвовала всеми, кто стоял впереди, но за деревьями не видно леса — особенно если тебе двенадцать.
— Я скучаю по нему, — сознался Персиваль.
Ланселот, не зная, что ответить, погладил его по голове. Тот не стал уворачиваться.
— Жалко, что Котел Аннуна сломали ирландцы, — Персиваль выпростал руку из-под шкур — жарко. — Он бы вернул нам Гавейна. Ты слышал про Котел Аннуна?
— Кое-что. Это похоже на нашу святыню, Грааль. Говорят, Иосиф Аримафейский привез ее сюда, в Британию, и сокрыл в замке Кэйрбанног, а увечный король, который исцелился, испив из чаши, поклялся быть ее хранителем.
— Значит, его можно найти тут? — круглые глаза Персиваля блеснули усталым интересом.
— Быть может.
— Наша легенда старше твоего Христа, — обстоятельно заметил Персиваль.
— Быть может, — повторил Ланселот. — Спи уже.
— Как же твой Грааль привезли сюда? Может, его здесь и сделали, из обломков нашего котла? А потом хвастались, что это ваша святыня? А какой он? Должен быть медный. Злобный он, этот король, который его охраняет? — Персиваль помолчал, не особенно ожидая ответа, как и всегда, когда задавал сразу все вопросы. — Думаешь, я его найду?
— Хочешь стать бессмертным? — обескураженно спросил Ланселот.
— Я же Зеленый Рыцарь. Как я буду защищать фэй, если умру?
Он зевнул, заворочался, сквозь одеяло лягнул пяткой. Совсем рассвело, Ланселот приподнялся задуть фитиль — и увидел Гвиневру. Она смотрела на них, поджав губы.
Сколько она уже простояла здесь — сказать трудно, но судя по всему — долго, а они оба не слышали ее прихода.
Ланселот ожидал гневного взрыва, криков, угроз, но она только круто развернулась и, не оглядываясь, бросила:
— Не смей портить Зеленого Рыцаря своей болтовней.
Как видно, случай с часовней ее чему-то научил.
Персиваль пихнул его в бок. Ланселот пихнул его в ответ. Персиваль выглядел довольнее некуда — так и заснул. Ланселот посидел с ним еще немного, задумчиво поглаживая ладонью колючее одеяло, и вышел на улицу.
Город спал мертвым сном после бурного празднования, только размытые сумерками фигуры стражей размеренно вышагивали у постов.
— Я не желаю, чтобы ты насаждал в Камелоте своего драгоценного господа, — зашипела Гвиневра. Даже пар от ее дыхания выглядел сердитым. Рваным движением она стерла со лба испарину, словно хотела заодно содрать кожу. — Я дала это понять. Тем более среди детей.
Ланселот не понимал причину ее непримиримой ненависти — ни теперь, ни когда стоял перед тараном, защищая единственную уцелевшую стену, которая все равно рухнула днем позже.
— Он мне вроде младшего брата или сына. Думаешь, я стал бы… насаждать что-то.
— Персиваль думает, это ты ему вроде младшего брата или сына.
— Что ж! Зная Персиваля, нам главное не делиться друг с другом взаимными заблуждениями.
Она издала грубый короткий смешок и, кажется, оттаяла.
— Если дело только в Господе, Гвен, — тихо сказал он, — и в моей вере, то Камелоту нечего опасаться. Бог милосерден и учит прощать.
— Сними уже свою рясу. Или положи меч. Этот ваш великий потоп не по его, господней, части?
— Твои боги не гневаются?
— Они и не притворяются милосердными!
— Мы ссоримся из-за богов? — уточнил Ланселот.
— Да, — огрызнулась она. — Мы ссоримся из-за богов!
***
Три последние ночи выдались спокойными: в лесу не колыхнулась ни одна травинка, ни одна ветка. Красные Паладины на время забыли сюда дорогу, и Ланселот отдыхал. Одиночество возвращало ему цельность, а Камелот разрывал его на части.
Этот город лежал прямо на его плечах, цеплялся за его ноги, висел на запястьях, кричал: «Дай! Дай!» — будто капризный ребенок. У города была тысяча тысяч голосов и тысяча тысяч лиц. Город, который грезил его смертью, теперь обращался к нему на десятках наречий. Он не знал, на каком ответить, а город продолжал клянчить неведомых даров, будто не знал, чей он и что у него ничего своего нет.
Лес признавал его, не отвергал ни Ланселота, ни Плачущего Монаха, открывал все тайны по праву крови. В том, что он полагал талантом, редким чутьем, способностью, вздымавшей его над остальными, не было и тени чуда — это была печать, памятка, подарок предков, укротивших гордые ясени и буки задолго до его рождения.
Ланселоту потребовалось время, чтобы смириться с этим. Как оказалось, гордости у него через край.
Ему нравилось степенное спокойствие деревьев накануне зимнего сна. Странным образом теперь, когда опала листва, лес казался еще зеленее — это мох почуял свободу и расползся по коре и земле: изумрудно-зеленые кочки, косматые бороды, каменисто-голубая чешуя и медный ворс заполонили все вокруг. Лес прел, пресыщенный холодной влагой поздней осени, воды было столько, что повсюду стояли болотца. Низкое бледное солнце наискосок касалось нижних веток, и те роняли узловатые тени на землю. Редкие листья казались отлитыми из золота и бронзы. Лес был глубок, как колодец; Ланселот глядел в него и мог увидеть дерево, с которого этот лес начался, почуять, с какой стороны света ветром принесло семя, из которого проклюнулся росток этого дерева. Поверхность земли еще хранила битый морозом травяной подшерсток. Позеленела мутная вода в глубоких длинных ручьях, пересекающих узкие низины. Лесной бальзамин не сдавался, и на влажной, отсыревшей земле стоял твердо, покачивал винно-красными цветами, хищно распахнув лепестки. Сухая ложбина выдохнула припасенное с лета тепло. Половинчатая луна встала над деревьями.
Он слышал чужое присутствие, кто-то неуклюже ломился через кустарник, ветки кричали, умирая, листья всхлипывали, оплакивая явление варвара. Он даже догадывался, чье это присутствие.
— Ты не заслуживаешь жизни, — заявил Мерлин — как всегда пьяный, вывалявшийся в коровьем дерьме. Под распахнутым засаленным плащом виднелось дряблое тело, на вороте вытерся мех, рубаха из плотного шелка пропрела на груди. Глядя на него, Ланселот с трудом верил, что таков ныне облик Мирддина, Дьявольского Зуба, предводителя кельтских варваров, в ногах у которого ползали остатки Рима, не утонувшие в крови на улицах от Терм Каракаллы и до Мавзолея Августа.
Артур говорил, что смерть дочери подкосила Мерлина навсегда и ее воскрешение в Озере ничего уже не изменило. Он был в шаге от падения, когда Нимуэ стала неожиданным посохом в его руках; но опираться стало не на что.
Потому что мужчины слабы, сказала Гвен; вы — щепа, а мы — лоза. Нет у тебя жалости, привычно посмеялся он. Ты уже говорил это, равнодушно ответила она.
Ланселот мягко спрыгнул на землю, чтобы разговаривать на равных. Мох едва прогнулся под ногами.
— С этим Господь разберется.
— Т-твой господь-спаситель, — Мерлин пьяно, громко отрыгнул. Кислая солодовая вонь повисла в воздухе. — Что-то я не видел ни одного им спасенного, кто ходил бы по земле.
Он запрокинул голову, вытряхнул в рот несколько капель эля из кожаной фляги. Попытался сунуть ее, пустую, за пояс, но подвели трясущиеся руки — тогда он просто запустил ее в заросли бальзамина.
— Моя дочь была спасительницей своего народа, — язык у него заплетался, слова в обход языка рвались изо рта и упали Ланселоту под ноги — едва различимые, измятые, словно непрожеванная лепешка.
Ланселот вспомнил слова Гвиневры о девчонке, которой случайно попал в руки Экскалибур, жаждущий крови, которая кричала громче всех и призывала к тому, о чем понятия не имела. Сам он едва помнил эту Волчью Ведьму, которая теперь плела заклинания в своем озере: синее платье и пышные волосы — все, что разглядел издалека в единственную встречу. Он искал ее по запаху — как и всех фэй, которых помогал распинать, сжигать, колесовать и топить.
— Твоя дочь сумела защитить работников одной мельницы и привести к двум кораблям Пендрагона жителей одной деревни, и то корабли были ловушкой. Их спасительницей стала Красное Копье.
И Гавейн, подумал он, вот кто был истинным стражем фэй, даже худших среди них, даже отступников, молящихся на чужом языке.
— Остальные пришли в Камелот, когда твоей дочери там и в помине не было. Их пригрела Красное Копье.
— Д-да, это твое Копье, — Мерлин вперил в него стеклянные глаза с красными прожилками. — Кто из вас кого п-протыкает, хотел бы я знать…
— Это вряд ли. Тебе стоит меньше пить, колдун.
Мерлин глумливо рассмеялся.
— Убей ты столько, сколько я… ты бы тоже хотел утопить это в вине.
Ланселот вспомнил кишки крестьянина из фэй, намотанные на перекрестье Меча Веры. Смрад требухи и нечистот, склизкую кровь на собственных руках. Их много было, таких крестьян. Странно, что их души оставили его в покое — может, потому что он, последний из Пепельного народа, жил в окружении мертвых до того, как Карден вырезал крест на его затылке. Сны тревожила только укрытая снегом земля, ярко-белая даже в ночи.
— Мирддин пришел убийствами померяться с Плачущим Монахом?
Чародей покачнулся и сел. Поскреб лысую голову и оперся спиной о дерево. Глаза у него помутнели.
— Плачущему Монаху жить и жить… чтобы хоть в чем-то померяться с Мирддином.
— Как скажешь.
Он поднял из травы флягу, брошенную Мерлином, и сунул себе за пояс.
— Давай, отведу тебя домой.
Мерлин не ответил. Он спал.
***
Для драккара пошили новый полосатый парус, желтый с красным, чтобы видно было издалека, осталось только закрепить на мачте. Новую резьбу пустили по борту и поверх киля. Деревянные завитки, которыми завершались нос и корма, долго шкурили, чтобы даже младенец не занозил руку. Ободрали со дна ракушки, затвердевшие слои ила и водорослей, соскребли плесень, заново протравили смолой, заменили доски, подточенные древоточцами, просмолили еще трижды, законопатили щели, прочистили весельные люки. Новые доски подогнали хорошо, скрепили внахлест, на бортах развесили щиты. Все это не было работой одного человека — и не могло быть, понадобились бы годы, чтобы поставить корабль на ход с одной парой рук, но жадничать было ни к чему.
У Гвиневры трепетали ноздри. Она гладила пропитанный жиром парус, словно чуяла ветер, который его раскроет. Словно море уже шепталось с ней, волны перекатывались, приподнимая и опуская судно, а в лицо сыпало мелкую соленую крошку. Ланселот ощутил смутную отстраненную ревность, глядя, как она касается нового борта, как скользит ладонью, пальцами прощупывает каждый стык между досками, каждый деревянный крепеж.
Он видел, как ей мучителен берег, как ее стиснули леса и скалы; он хотел бы снять с нее оковы земные, но как было отцепить от нее тысячи рук, как отвести от нее тысячи глаз, заставить умолкнуть тысячи голосов, которые повторяли: «Дай, дай!»
— Пойдем, — поманил Ланселот. — Покажу кое-что.
Он повел ее сквозь тростник вдоль реки, но чуть глубже в лес, пока не окреп берег, оплетенный заскорузлыми корнями, которым уже тесно становилось в земле и друг на друге, и более молодые вытесняли стариков. Римская дорога была заброшенная уже достаточно долго, чтобы ее заплел дерн и заслонили кустарники, но — это Гвиневра должна была понять, для того он привел ее — построена достаточно крепко. Хватило бы сорвать траву и обрубить ветки, чтобы по ней снова поехали телеги и пошли войска — прямо на Камелот.
Гвиневра смотрела на дорогу, как на змею — на труп змеи: размотанное далеко вперед длинное прямое тело, серое и плотное, каждая чешуйка-камень подогнана вплотную к другой.
— Еще при Цезаре построили, — сказал Ланселот. — Потом ушли из этих мест. Грамейр возвели четыреста лет спустя. К тому времени про дорогу никто не помнил, кроме нее самой.
— Ты откуда узнал про нее?
Ланселот пожал плечами.
— Люди показали, — ответил уклончиво.
— Люди, — хмыкнула Гвиневра.
— Они.
Гвиневра смотрела на дорогу, кусая губы.
— До Камелота по ней можно пройти как по маслу, — пробормотала она.
— Поэтому я тебе ее и показываю.
— Ее нужно охранять. Уговоришь своих?
Ланселот кивнул. Камелот только что повязал их по рукам и ногам, но говорить об этом вслух не стоило.
Они молча вернулись в заводь. Драккар ждал на сходнях.
— Ты недавно говорила мне о насаждении веры.
— Я зря это говорила, — низким чужим голосом ответила Гвиневра. Она смотрела на воду. Поверхность чуть дрожала там, где ее задевали плавниками рыбы, поднимаясь схватить воздуха немыми губами.
— Я насаждал здесь веру много лет. И после всего, что наделал…
— Я знаю. Я поэтому на Ледяной трон не села, — она снова покусала нижнюю губу и заговорила на одном дыхании — так, что почти сливались слова. — Не вынесла ужаса, в который сама себя загнала. Не смогла надеть корону, скатившуюся с отрубленной головы Камбера. После этих кострищ, на которые приносили и приносили трупы, а они все равно гнили, так много их было, а на гниль бежали крысы и несли новую заразу, и мы просто свалили трупы в крепостной ров, уже мягкие, зеленеющие, и бросили на них факелы, и они погасли, а мы бросили новые, и бросали еще трижды, пока они занялись, а потом горели три дня, и я думала, Нидарос утонет в блевотине, потому что дышать было невозможно... После этих багряных снегов… Но даже после всего этого мне не стоило выходить за Артура замуж. Достаточно было вознаградить его в постели. Но тогда Британия казалась настоящим спасением.
Она увернулась от его попытки даже не обнять — положить руку на плечо. Это было так на нее похоже — и все равно он бы положил руку ей на плечо и в этот раз, и в следующий.
— Надеюсь, ты оставила свой Ледяной трон надежному человеку.
Гвиневра хмыкнула и запустила камешком в борт. Он ударился звонко, отскочил и с плеском ушел в Аск.
— Ты стал бы хуже думать обо мне, если бы я просто ушла из Нидароса?
— Я бы стал думать, что твоя забота о Грам… Камелоте — это путь искупления. А ты совсем не похожа на кающуюся грешницу... в моих глазах.
— Ах да, монахи, — Гвиневра фыркнула. — Надежному. Его выбрали на тинге в Нидаросе самые важные и мудрые мужи со всей страны. Его зовут Мордред.
Chapter 3: Декабрь
Chapter Text
Осень мелькнула стремительно, как будто лиса норовила улизнуть от охотников: показала рыжий бок и исчезла среди обнаженных черных деревьев. С середины октября время понеслось под откос.
Гвиневра ждала его истечения с северным спокойствием. Ланселота грызла голодная и отчаянная тревога. Он не говорил, но Гвиневра чуяла, как он ведет счет неделям и дням. Его хотелось увести от этого счета, но она не понимала, куда. Не понимала, как. Ночь за ночью он отправлялся в темноту за пределы города, как будто хотел, чтобы чертова Троицына стража нашла его и закончила начатое прошлой осенью. Гвиневра ненавидела эту мысль и на милю не подпустила бы к себе Ланселота, окажись права.
Она не говорила об этом вслух, потому что каждое утро Ланселот возвращался — к ней и Камелоту. Порой она спрашивала себя, больше к ней — или Камелоту, который смирился с ним, примирился с ним, подружился с ним и поклонился ему? Поладили бы между собой Плачущий Монах и Грамейр — или карающий Меч Веры так и косил бы ланселотово племя, как хлебороб серпом рубит колосья, во имя надежды задобрить город, фундамент которого помнил богов до времен, когда пробудилась память фэй?
Слишком бесконечная мысль, чтобы ей сбыться. Гвиневра любила мысли короче и проще: об обрезке деревьев в садах, чтобы пышнее плодоносили; о соломе на волосяники и подстилку скотине; о желобах и бочках для сбора воды дождевой и талой; о мешках сушеной клюквы и смородины против болезни десен — по правде, она не знала, одолевает ли такая болезнь сухопутных, но предпочла бы не проверять… Под глазами у нее появились тени и, кажется, даже морщины. Ланселот их не замечал. Ладони стали до того жесткие, что кожа на подушечках пальцев слоилась и топорщилась, впору было пилить точильным камнем. Ланселот и этого не замечал. Мышцы у нее после нескольких месяцев безделья вновь подтянулись, и одежда сделалась велика. Каждое утро Гвиневре казалось, что еще одного дня она не вынесет, но все происходило будто само собой. Каждый день она загоняла себя до изнеможения. Каждую ночь падала в постель, говоря себе, что станет спать до утра, а следом ей казалось — она может не спать вовсе, а чтобы перевести дух, достаточно закрыть глаза на два-три удара сердца. Занятая с утра до вечера, она успевала просмотреть записи о поголовье скота, о мешках зерна и шерсти, о скирдах с сеном, о рожденных и умерших, о числе ремесленных мастерских; проверяла конюшни, овчарни и коровники; объезжала поля, придирчиво осматривала скирды, и Ланселот — ее пепельная тень — отставал на полкорпуса лошади, а крестьяне и все, кто стали крестьянами, кланялись. Вот так она и заметила — как это всегда и бывает, внезапно и слишком поздно, — что Камелот изменился за прошедшее лето, перестал помещаться внутри крепостных стен Грамейра, потому выбрался из них, как дитя выбирается из слишком тесной одежды, и оттеснил из долины перелески и даже лес. Камелот прирос домами под земляными и соломенными крышами, которые с подветренной стороны подперли амбары; свежие доски, какие не сгодились для хозяйственных построек, обозначили загоны для скота; курился дымок из очагов, запах тушеных овощей и жареного мяса доносился с ветром; чумазые дети, которых Гвиневра отказывалась считать людьми, покуда не подрастут достаточно, чтобы держать весло или щит, играли с погремушками из рыбьих пузырей и деревянными заготовками. Пастушки сгоняли коров в стада, указывали, где еще осталась побитая первыми заморозками трава...
И Гвиневре стало не по себе, потому что она не знала имен тех, кто жил в новых домах, и не запомнила даже тех, кто жил в старых, а по римской дороге, которую не разбили ни легионы, ни колеса, ни копыта, тянулись обозы, запряженные медлительными и тощими волами, и везли новые имена, новые лица, новые жизни. Этим людям ветер и пьяные рифмачи наплели, будто на берегах Аска появилось заколдованное место, где все пребывают в мире, равенстве и безопасности. И Гвиневра не знала, откуда пришли эти и другие до них и на сколько намерены оставаться; как и они не знали, что самозваный король Артур, избранный среди людей и фэй, не больше чем ловец удачи, схвативший едва ли перо из хвоста этой капризной птицы; что она, Гвиневра Красное Копье, жена самозваного короля и героя, открыто спала с другим мужчиной, Плачущим Монахом, чей меч многих отправил в землю, а многих покалечил, и шрамы их были еще свежи. Потому что ей не было дела до безымянных мужчин, женщин, детей и стариков, до их домов, овец и собак, до того, хватит ли всем постелей и башмаков. Потому что до сих пор она несла ответственность за свой драккар и своих людей, общим счетом полсотни — Дафа убили люди Пендрагона, но его заменила Пим, так что по-прежнему полсотни, — а город и поселения показались ей необъятными, как море. Город стоял и требовал отдачи уже давно, но почему-то Гвиневра не замечала его, пока не заметила поселения.
То, что она видела перед собой, было слишком для ее забот.
— Надо бы выставить стражу к ним поближе, — не оглядываясь, с сомнением сказала Гвиневра, слушая, как мягко-мягко, опускаясь в бороненую землю, перестукиваются копыта Эйры, которой она сподобилась наконец-то дать имя, и Энфиса, которого Ланселот назвал сразу.
— Я позабочусь, — спокойно прозвучало за ее спиной.
И он ушел на всю ночь.
Иногда Гвиневра думала, что бывает с теми, кто попадается ему на пути. Не может быть, чтобы за все время не попался никто — руки Рима, пусть он издыхает тысячу раз, все еще длинны, а сторонники Утера не расточились в воздухе. Принесет ли Ланселот ей однажды голову безымянного Красного Паладина в мешке, за которым будет тянуться кровавый след, или его заступничество так и останется невидимым?
Она так и эдак крутила эту мысль, впадая в поверхностный легкий сон и пробуждаясь от любого шороха. В конце концов он вышел к ней из темноты, как всегда, беззвучно, неведомо откуда, и когда обнял длинными руками, пахло от него лесом, сыростью, холодом, а не кровавой бойней.
— Вы, фэй, вроде как рождаетесь на рассвете, чтобы уйти в сумерках, значит, дети дня, — едко заметила Гвиневра. — А ты жизни, кроме ночной, не знаешь.
— Неправда. Мне ведома жизнь при свете.
Он погладил ее лоб, словно стер заботы дня прошедшего и грядущего. Гвиневра прикрыла глаза, обхватила его за пояс.
— Ланс, — тихо спросила она, — мы сделали все, что могли?
— Да, — он тронул губами одну ее бровь, затем другую. На внутреннем дворе закричал петух. — Не сомневайся. Теперь очередь Камелота.
***
Артур ступил на земли Британии в первый день зимы, перед тем, как море и небо взлохматили свирепые шторма. Причал с утра расчистили, но неторопливый снег уже присыпал его снова. В верховьях Аск уже прихватило льдом, но залив и устье благодаря теплым течениям были в безопасности. Гвиневра с неподвижным лицом смотрела, как приближается дромон, как рулевые выправляют его движение в русле — непростом, разветвленном, хищном, словно река некогда хотела раскрошить берег, но обессилела в шаге от цели. Рулевых Артуру, несомненно, одолжил Беовульф: дромон они вели медленно, но величаво и мягко, промеряли глубину, без рывков обходили опасные отмели и скрытые обманчивой толщей воды зубастые скалы, о которых уже знала Гвиневра. Весла плавно опускались в воду и так же плавно выныривали. Срывались капли, ловили солнце и с плеском возвращались в Аск. Дромон подошел к причалу и замер, команда принялась спускать паруса, толпа на пристани взревела на человечьем и зверином.
В этом реве Гвиневра слышала одно лишь оглушительное молчание Ланселота, стоявшего на несколько шагов позади нее.
А еще она заметила, что осадка дромона стала меньше, чем была, когда Артур отплывал на континент; выходило, что он все отдал, но ничего не приобрел — кроме, может быть, обещаний. Гвиневра нахмурилась.
С борта спустили сходни, Артур сошел на берег, и вокруг взревели снова, вдвое громче прежнего, застучали по камням и дощатым настилам древками копий, затопали. Он помахал обеими руками, лучезарно улыбнулся. Гвиневра лучше всех знала, как его воодушевляет признание толпы.
На пристани они смерили друг друга ледяными взглядами. Артур кивнул кому-то за ее спиной и перевел взгляд на Гвиневру.
Она приоделась ради этой встречи в широкий сарафан из зеленой шерсти, украшенный речным жемчугом и золотым шитьем, затянула на боках шнурами с богатыми кистями, заколола накидку из той же шерсти бронзовыми фибулами на плечах, надела тяжелые позолоченные серьги и торквес с подвесками: три сплетенные северные подводные змеи грызли свои хвосты, образуя трикветр. Артур был подчеркнуто прост в шерстяной куртке поверх серой льняной рубахи, словно после долгого отсутствия искал способ улестить собственных подданных и получить их прощение. Должно сработать, подумала Гвиневра. Она нарушила молчание первой:
— Мой господин король.
— Моя госпожа королева.
— Как прошло путешествие?
— Спокойно.
— Что решил Беовульф?
— Пошел на соглашение. На своих, разумеется, условиях, на то он и Беовульф... Но об этом после. — Артур одарил ее колючим и ослепительно белым оскалом. — Что, не поцелуешь меня?
Вместо ответа Гвиневра шагнула вперед и мазнула губами по одной щеке Артура, затем по другой. В холодности такой поцелуй спорил с его оскалом.
— Ладно, — сказал Артур. — Довольно на сегодня.
Рука об руку они прошли сквозь толпу рогатых, крылатых, с когтями вместо пальцев и с клыками, растущими из щек; с лицами, заросшими рыбьей чешуей, и с зеленой кожей, какая у гусей растет на перепонках лап; следом стояли фэй, больше всего похожие на людей, Гвиневра уже научилась отличать таких; затем выстроились ее, Красного Копья, люди — матросы, воины, те, кто плавал на ее драккаре и кто последовал за ней из Нидароса после того, как Нидарос утонул в крови. За ними толпились горожане: кто пришел поглазеть, кто украсть, кто пропустить чашу-другую и хорошенько подраться — каждый со своей задачей и в согласии с совестью. Небо прояснилось, из-за туч вынырнуло солнце и теперь полировало мостовую на их пути, словно хотело превратить ее в зеркало. Снег таял, свет слепил отовсюду, отражаясь в неглубоких лужицах. Люди расступились на всем пути, лежащая перед ними мостовая сужалась впереди и походила на новый клинок. Артур махал рукой, Гвиневра кивала и улыбалась.
Она перестала улыбаться, как только в малом замке за ними закрылись двери тронного зала.
— Тебе следовало давно вернуться, — сказала она.
— Вы, северяне, переговорщики хуже некуда, — Артур повесил Экскалибур на спинку трона. — Постареешь, пока добьешься своего на подходящих условиях.
— Беовульф — не северянин, Беовульф — торгаш, — с презрением сказала Гвиневра. — Но ты добился?
Он пожал плечами — ни да ни нет.
— Беовульф пришлет корабли и двадцать одну сотню наемников весной.
— Почему только весной? А зимой наемники Беовульфа нам не потребуются?
— Если бы Папа хотел поработить нас, Красные Паладины давно уже переплыли бы пролив. К весне я надеюсь найти плату за уступки Беовульфа.
— Он заломил такую цену?
Артур раздраженно дернул ртом. Гвиневра не стала прибавлять, что он зря не взял ее с собой.
— Учти, Артур, налогами здесь обложить некого. Твои подданные — рвань, а те, кто рванью не был, превратился в нее после падения Утера и изгнания Рима.
— А хорошего что скажешь?
— Мы запасли тысячу мер зерна в амбарах и кладовых — для прокорма людей, скота и птицы. Этого хватит для города, но если люди и фэй продолжат приходить и селиться за стенами, нас ждет голодная зима, Артур. Ртов много, и с каждым днем становится все больше.
— Мы, — едко повторил он, словно не услышал больше ни одного слова.
Ее кольнуло изнутри — что там, в нее вонзились сотни ножей. Гвиневра стиснула зубы.
— Значит, ты открыто спишь с моим первым рыцарем. Это попахивает изменой.
— Ты изменил мне первым, Артур, — ледяным голосом ответила она. — Ты первым нарушил клятву. Не смей требовать от меня того, чего сам дать не можешь.
— Его изменой.
У нее дернулись губы. Артур попал в слабое место, только вот сдаваться Гвиневра не собиралась.
— Тогда разберись, кому он изменил. Отруби голову защитнику Камелота, которого даже ты победить не можешь. Да и королеве своей отруби, если сумеешь. Зачем тебе ее корабли, если Беовульф к весне пришлет другие? То-то в Риме порадуются.
В темных глазах Артура она прочла холодное восхищение. Стены вокруг, казалось, покрываются инеем. Гвиневра поклялась бы, что при выдохе от нее расходится облачко пара.
— Напрасно ты меня искушаешь, — сказал он.
— О нет. Чтобы вводить тебя во искушение, есть Нимуэ.
— Вот мы и дошли до сути. Ланселот знает, что он — твой способ отомстить Нимуэ?
На мгновение Гвиневра оглохла от гнева.
— Ланселот знает все.
***
Мысленно посылая всю Британию, двух ее главных ведьм и короля на север и в горы, Гвиневра нещадно хлестала ивовым прутом высохшие соцветия болиголова и золотарника, встающие на ее пути, и они щедро ссыпали за ней и перед ней сухие легкие лепестки и полупрозрачные обломки листьев. А то и роняли изящные головы с ломких длинных шей, не выдерживая королевского гнева, пока Гвиневра прокладывала себе путь через бурьян к жилищу Вдовы. Сюда вела и обходная, длинная и куда более удобная дорога через весь город, но на длинную ей не хватило бы ни терпения, ни гнева.
Кем она себя возомнила, эта девка в черном тряпье!
Она свернула бы ей шею — и той Волчице-Паучихе тоже, чтобы больше не вляпаться в ее паутину...
До сих пор ей казалось странным, что ни Вдова, ни Хозяйка Озера не явились к ней с поучениями. Гвиневра была готова поклясться, что они соревнуются, чья очередь идти первой; но прошло лето и половина осени, а ни одна не спешила.
Теперь-то она поняла причину. Ее снова одурачили на глазах у всех.
Моргана ей ничуть не удивилась.
Гвиневра бегло огляделась: фолианты, свитки, новые и переписанные книги, чернила и перья, магические письмена — каждое ровнее и четче предыдущего, словно рука и мысль обретали все большую уверенность. Вязанки сушеного чертополоха, чучело змеи, распотрошенная высохшая лягушка и внутренности какой-то мелкой зверушки — а может, и выкинутого до срока человеческого приплода — в прозрачном крепком самогоне.
Наука и магия переплелись в этом логове, как тайные любовники, столь же тесно и жадно, и так же не желали открываться чужакам.
Гвиневра без приглашения села на место, которое понравилось — поближе к свету и свежему воздуху. Моргана пожала плечами, продолжила делать в книге с потрепанными краями какие-то отметки.
— Ты сдала нас Артуру, — с порога прорычала Гвиневра. — Сговорилась с этой Волчицей и сдала.
Моргана не стала отрицать, вонзила перо в чернильницу, присыпала песком свежие записи. Тряпицей стерла со смуглых пальцев темные пятна.
— Не ради Артура, — с достоинством ответила она. — Ты же не думаешь, что я питаю преданность или привязанность к брату, который бросил меня, позволил обменять на долги нашего отца и которого я не видела пятнадцать лет?
— Артур говорил, что был тогда ребенком.
Моргана морозно улыбнулась — по меньшей мере это у нее с братом было общим.
— Удобно быть ребенком, правда? Напомни мне, Персиваль — ребенок? Он поступает согласно своему ребяческому возрасту или согласно законам совести?
— Ты ненавидишь Артура?
— Я жалею о его наивности, — Моргана вздохнула. — Жалею, что детской памяти о нежности, какую мы питали друг к другу, оказалось недостаточно, когда мы выросли. Он добр и глуп. Что тут ненавидеть?
— Тогда ради кого?
— Ради Ланселота.
Гвиневра остолбенела.
— Что?
Моргана откинулась назад, сложила руки на животе, наслаждаясь удивлением гостьи.
— Я не понимаю. Он же твой враг.
— Не забывай, мы с ним вышли из одного гнезда, — покровительственно пояснила Моргана. — Я знаю, как он мыслит. Знаю, кто заставил его так мыслить. Знаю, что этого не исправить даже за десять лет. Ты представить себе не можешь, как глубоко в наши души вбиты их священные письмена. Хотя аббатиса Нора в сравнении с Карденом просто мать родная. Ланселот не вынес бы вранья, которое для тебя так легко. Вы сами упустили время, когда могли бежать.
В ее словах не было ничего, чего уже не знала бы Гвиневра, но правда, как положено всякой правде, оказалась невыносима из чужих уст.
— Он сказал бы Артуру сам. Без твоего участия.
Моргана подняла бровь.
— Любовь делает с нами страшное, Белый Призрак. Как думаешь, чем я была занята целый год, пока мой брат воевал здесь и на твоем севере?
— Понятия не имею.
Моргана нехорошо улыбнулась. По ее лицу мелькнула пепельная тень — словно качнулась невидимая черная накидка.
— Воскрешением. Я же Вдова. Я живу в междумирье — телом здесь, духом там. Ты смотришь на меня, но ты меня не видишь, — ее голос странно, гулко зазвенел. Будто гонг на носу драккара, подающий в тумане сигнал соседним кораблям. — Я забрала у мертвых дух Селии, вывела ее из круга, в котором Калех позволила ей жить, дала ей новое тело и любила ее. Шесть долгих месяцев я была тяжело больна своей страстью и своей властью... А потом поняла, что даже обожженной калекой, целиком во власти Калех, говорящей с ее языка, моя Селия была ближе к истине. И я отправила ее туда, откуда она восстала — в огонь. — Моргана снова нехорошо улыбнулась, заметив недоверие и отвращение во взгляде Гвиневры. — Да. Я сожгла ее на жертвеннике Сокрытого. Приковала цепями, облила вином и лампадным маслом и... Другого способа успокоить душу нет. Она горела, а я слушала ее вопли и смотрела, как лопается и слезает обугленная кожа, потом мясо обнажает кости, потом и кости прогорают и рассыпаются. Я собрала золу и зарыла там, где умерли ее сестры, и наконец-то проснулась от своего наваждения, тяжкого, как смерть. И кто скажет, что я не ради любви это сделала, тот не знает о любви ровным счетом ничего.
Ее новая улыбка пригвоздила Гвиневру к стулу, заставляя дослушать до конца.
— Любви не в твоем понимании, Белый Призрак, — снисходительно прибавила Моргана. — Любви в понимании Ланселота.
— Я ненавижу это слово, — сцепив зубы, ответила Гвиневра. С трудом содрала себя с места. — Твой брат вывалял его в грязи.
Моргана молча склонилась над своими фолиантами.
Она встретила их вместе несколько дней спустя.
Моргана и Ланселот, негромко переговариваясь, шли на расстоянии плеча друг от друга — как очень старые друзья. Или слишком, слишком старые враги, у которых из памяти стерлась причина вражды.
Гвиневра ощутила укол ревности — никто не смел смотреть на Ланселота, будто знает его лучше, будто знает его всю жизнь. Никто, кроме нее. Она не знала его всю жизнь, но знала всю его жизнь. Отойди в сторону, обмирая от невыносимого бешенства, твердила она про себя, отойди, у тебя никаких прав.
Но Моргана, разумеется, ее не слышала.
***
Калех отстирала плащ, незадолго до солнцестояния заявила Моргана. Ее слова все восприняли с облегчением.
Наконец-то легла зима. Сырость и смена снега на слякоть, слякоти на ледяную корку, ледяной корки на снег, а снега снова на слякоть унялась. Теперь с утра до вечера, будто нагоняя потерянное время, валил снег. Его едва успевали отгребать от дверей вечером, чтобы с утра снова взяться за лопаты и метлы. Когда снег наконец кончился, то окна первых этажей были скрыты наполовину.
В Камелоте был и другой повод перевести дух.
Засыпанные дороги наконец-то остановили бурный поток тех, кто искал покровительства Артура; их тонкий ручеек какое-то время отважно пробирался сквозь сугробы, по дороге теряя скарб и членов семьи в местах, которых не запомнили, будучи не в себе от холода и потери, чтобы вернуться, когда весна сжалится и снимет покровы с окоченевших тел. Потом и того ручейка не стало. Призрак голода, неотступно маячивший где-то в конце зимы — когда иссякают все силы, все зерно, все сено и все дрова, крысу меняют на мешок золота, а люди прячут в ледниках трупы младенцев, которые пойдут на суп и прокорм оставшейся в живых семьи — рассеялся.
В ожидании Йоля город притих. Гвиневра не сразу поняла, что это темное время года внушает копытным, рогатым и крылатым суеверный дремучий ужас. Блеклое солнце, уставшее вынашивать новый год, едва приподнималось над зубцами крепостных стен, бросало несколько изнуренных взглядов на верхние этажи, даже не вспоминая об улицах и тем более переулках, и скрывалось с чужих глаз, оставляя после себя отчаяние. Все они дети дня, живущие от рассвета до сумерек. Тьма пугала их, заставляла держаться настороже, метить двери кровью и возжигать сухие стебли зверобоя и крапивы, чтобы отвести беду.
Даже Пим тише воды и ниже травы слонялась из угла в угол и бормотала какие-то полудетские заговоры, суеверно плевала в гаснущий очаг и скрещивала пальцы всякий раз, как при ней порыв ветра гасил свечу.
Гвиневра опасалась, потом злилась, что они потянутся к озеру искать заступничества своей отрекшейся королевы. Потом решила — пусть уже тянутся, лишь бы сбросить это оцепенение, это ожидание беды, которым исходил Камелот, которое проступало на его стенах, как испарина, и, как мор, перекидывалось на ее людей, на нее саму. У нее под кожей зудели дурные предчувствия, от каждого крика ночной совы разносилось эхо дурных предзнаменований, и ей хотелось закрыть глаза и проснуться в день, который наконец-то станет длиннее предшественника. Говорят, рождение нового солнца здесь празднуют с размахом, а ожидают с опаской. Как всякого, впрочем, рождения.
— Я становлюсь похожей на фэй, — пожаловалась она Ланселоту. — Я слишком долго среди них живу. Скоро сама стану к несчастью.
Они едва виделись с возвращения Артура. Тот выжидал целых три дня, пока соизволил — или собрал достаточно слов — призвать к себе Ланселота, и их разговор остался тайной. Гвиневра знала, что так будет, потому-то и готовилась лгать и изворачиваться до самого Рагнарека — или до окончания зимы, когда она убедится, что город выстоял, и наконец они смогут подняться на драккар, а потом начнется новая жизнь...
Моргана избавила ее от лжи, прикрываясь Ланселотом — знала, кем прикрываться; возможно, это очистило совесть, позволило не сверяться с каждым произнесенным словом, не плести в голове отговорок и недомолвок, не следить, как бы ненароком не спустить петлю, — но ничего не упростило.
— Не станешь.
— Я слишком долго живу на берегу, — она потянулась заплести ему новую косицу, уронила на снег шерстяную накидку. — Скоро пущу в нем корни и забуду, как поворачивается рулевое весло.
— Не забудешь, — он улыбнулся. — Артур хочет отправить меня на север, Гвен. Говорить от его имени с каледонцами.
Гвиневра убрала руки, передернула плечами. Ах ты, проклятый Йоль. Вот что спрятано в твоих венках из остролиста, вот чему гореть с твоим поленом, вот чем приправлен твой подогретый яблочный эль…
— Надеется, что туда твоя слава не докатилась?
— Сложно сказать, на что надеется Артур.
— Собираешься послушаться?
— Гвен, он мой король, — в голосе у него что-то заскрежетало, словно днище драккара, втаскиваемого на берег, соскребло гальку со дна. — Твой, между прочим, тоже. Поэтому да, я собираюсь послушаться. Он не отправит меня в Каледонию навечно.
— Значит, мы едем вместе.
— Ты не можешь оставить Камелот.
— Камелот достаточно долго был на моем попечении. Я вложила его в руки Артура чистым, сытым и здоровым. Пусть он проявит заботу и порадеет о благе детища, которое мнит своим. Как по-моему, оно твое и знает это.
— Гвен, Грамейр стоял задолго до моего рождения. Да, у него новое имя, но одна осень в его истории — ничто.
— Не знаю, на что надеется Артур, отсылая тебя, — она наклонилась, подобрала накидку, стряхнула снег, перебросила через руку. — Я все равно не вернусь в его постель и в его жизнь. Не будь тебя, я бы тоже не вернулась. Артур ни одну женщину не способен осчастливить, собственную тетку — и ту свел в могилу, до того сильным было ее разочарование. Мне бы знать об этом заранее, но ты не пришел бы ко мне, останься я в Нидаросе.
Ланселот покачал головой.
— Ни единого шанса. Я бы даже не узнал, что ты есть на свете. И много другого не узнал бы. Сказано, что кто не любит, тот не познал Бога. Я познал Бога, когда встретил тебя.
Слова свалили ее наземь.
Опрокинули на нее небо.
Обрушили реки. Обвязали горы вокруг ее шеи. Сбросили на морское дно и там погребли. Под толщей воды, глухая и немая, она выталкивала остатки воздуха, чувствуя, как легкие обрастают солью и льдом.
Женщина с ее круглым лбом и с ее темными волосами шарахнулась прочь от Ланселота. Взметнулась и с размаху влепила пощечину ее рука. Эхо играючи прокатилось по льду, сковавшему Аск, на другой берег и до самого устья.
— Не смей этого говорить! — согнувшись, пронзительно завизжала женщина, будто ее ужалили, будто ее ошпарили, будто она была монашкой, чью невинность пытались украсть. Вторили вороны, поднявшиеся с черных кривых ветвей. — Никогда больше! Никогда!
Ланселот растерянно тронул щеку, осознавая, что произошло. Потом кровь на глазах отхлынула от его и без того бледного лица — оно стало белое-белое. Снег таким белым не бывает. Только след удара полыхал на скуле. А в глаза ему, напротив, хлынула тьма: их заволокло густой матовой чернотой — и серую в синеву радужку, и белки, тьма эта хлынула по бороздам на его щеках, как деготь, и Гвиневра чуть не отступила еще на шаг. Сердце у нее колотилось в ушах, в висках, в горле. Она уже жалела о том, что сделала, готова была сказать об этом, но Ланселот отвел взгляд, обогнул ее — даже воздух не шелохнулся — и бесшумно, как полагается фэй, исчез. Сумерки самой длинной ночи разинули пасть и одним махом проглотили синие следы его шагов на снегу.
Chapter 4: Январь
Chapter Text
Гвиневра больше не чувствовала его присутствия. Раньше она могла с закрытыми глазами сказать, где он: в городе или за его пределами, на крепостной стене или на рыночной площади, в поле или в оружейной.
Теперь его присутствие иссякло, как порой покидает озера вода: разом уходит в неведомые подземные пустоты сквозь разломы в породе, порождаемые движением, которое человеческому разуму не постичь. Берега еще полны памяти, еще не пересохла трава, рыбьи тела подергиваются в илистом слое, водомерки вынимают из него игольчатые ноги, утки перепончатыми лапами разгребают его, толкаясь в лужицах медленно протухающей воды, а цапли с удовольствием выхватывают бездомных лягушек из высокой травы, но озеро ушло безвозвратно, и его не наносишь снова ведрами из колодца.
Персиваль, его злой ребенок, встретил Гвиневру на пороге и смотрел, как голодный волчонок. Дай она повод — прыгнет и схватит за горло, не перегрызет — так удушит, но зубов не разожмет. До чего злое дитя, кто идет им на смену...
— Долго шла, — сумрачно бросил Персиваль.
У Гвиневры не было времени, желания и сил поучать злых детей. Она поставила руки на пояс.
— Где он?
— Ушел, — гневным, полным слез голосом ответил Персиваль. — Из-за тебя ушел, дура ты проклятая!
Ей бы дать ему хорошенькую затрещину — такую, чтобы язык прокусил до крови и в другой раз помнил, с кем говорит. Но пока Гвиневра дошла до этой мысли, Персиваль, верткий и легкий, взлетел на перила, промчался по ним вверх, уцепился за водосток, раскачал себя и рывком забросил на крышу, не позволяя ей остаться наедине с его детским, все на свете захлестывающим горем.
Гвиневра не обратила на это особого внимания — в конце концов, Ланселот и раньше уходил и всегда возвращался, потому что больше пойти ему было некуда. Ей стыдно было вспомнить свое тщеславное, глупое торжество.
Но дни превратились в недели, а от Ланселота не было ни слова.
Ей снилась бледность, заливающая его лицо, и чернота, заливающая его глаза. Волки, гложущие его кости. Копья, раздирающие его внутренности. Крест, на котором его тело с содранной кожей выставлено у римских ворот — хотя Гвиневра знать не знала, каковы на вид римские городские ворота. Голова, насаженная на золотой папский посох. Руки и ноги, отосланные в назидание всем изменникам, во все стороны света.
Она умела разделывать человеческое тело. Она легко могла представить, что сделают с отступником, — ей самой приходилось делать. Она не могла спать от мысли, что Ланселот умрет вот так и вдали от нее.
Январь канул в небытие задолго до того, как закончился.
Chapter 5: Февраль
Chapter Text
Все началось с поста в устье Северна. В середине января не вернулись дозорные, а десять дней спустя в положенное время не вернулись и сменщики; когда к Артуру прибежали встревоженные семьи, он отправил вооруженный отряд — те вернулись и привезли на телеге разделанные кастрированные трупы, снятые с крестов. Связку их гниющих сердец и членов, отрезанных вместе с мошонками, обрубки конечностей и головы, которыми уже полакомились лисицы и мозги в которых уже высосали черви.
Артур похоронил мертвых, утешил вдов, облагодетельствовал детей, обещал кару убийцам, усилил патрули, но в начале февраля из устья Северна, а следом из Пембрука и Тинтагеля, с самых дальних рубежей, привезли новых мертвецов. А потом снова. И снова.
Гвиневра не сразу заметила исчезновения в своей команде. Сперва они осторожничали, уходили по одному или по двое, покупали молчание часовых, учились невидимыми и неслышными ускользать за городские вороты и просачиваться обратно, словно мыши или воздух. Держали сухим оружие, не брали с собой щиты, заматывали тряпками сапоги, не носили кольчуг, прятали рваные рубахи, придумывали незатейливые дела в городе — купить подружке ленту, снести сапожнику сапоги, спросить у кузнеца новый нож, у кожевника — поясную сумку, пропустить стаканчик эля с новым другом, завлечь в постель дочку трактирщика…
Она распекала их, заставляла ворочать мешки с зерном, таскать камни, чтобы латать фундаменты хлипких домов, катать бочки с соленой рыбой и колоть дрова — но в глубине души понимала. Команда точно так же маялась без моря, как и капитан, и не могла приложить к себя к береговым делам. Двое или трое из команды завели семьи в городе, Гвиневра встречала их жен, уже с тяжелыми выпирающими животами, и думала, решатся ли эти отказаться от простых радостей ради неверного капризного моря или пора искать им замену. Но остальных никак было не прилепить к берегу. Пока они помогали строгать, шкурить, смолить, рубить, крепить, тесать, доска за доской залечивать раны в драккаре Красного Копья, пока новое плавание казалось близким и неизбежным, каждый был весел; новая зима в Камелоте сняла сливки с этой надежды и оставила безвкусную синевато-бледную сыворотку.
Потом они неизбежно осмелели, исчезали уже на несколько дней — и самовольные отлучки выплыли наружу.
А резня на сторожевых постах прекратилась.
Артур пришел в бешенство. Она впервые видела, как дрожит за его спиной рукоять Экскалибура, и слышала долгий посвист металла, из которого клинок был выкован.
— Кем он себя возомнил? Он что — создает армию за моей спиной? Думаешь, я не слышал, что эти люди подчиняются ему одному!
— Не будь дураком! — рычала Гвиневра. — Ты знаешь, что Ланселот никогда не выступит против тебя! О какой армии ты говоришь? Это пятьдесят человек, мои пятьдесят человек! С этим разве что деревню завоюешь! Или ограбишь одно-другое рыбацкое судно!
— Все твои люди должны служить мне! — Артур ударил кулаком по подлокотнику. Снова долгий металлический посвист.
— У моих людей свободная воля, они сами выбирают себе командира!
Артур переплел пальцы, подался вперед, насмешливо рассматривал ее с головы до ног.
— Ушам своим не верю. Он переманил твоих людей — и ты его простишь?
Гвиневра собрала в кулак все свое достоинство — за два месяца от него мало что осталось, но чтобы произнести несколько слов, хватило.
— Его вины передо мной нет
Вечером она потребовала к себе рулевого — из-под земли, если потребуется. Явился Гапи — расторопный и увертливый, чуть суетный малый, который нырял вокруг руля с ловкостью рыбы и играючи управлялся с ним одной рукой.
Гвиневра сложила руки на груди и смотрела не мигая, пока Гапи норовил улизнуть от ее пронзительного взгляда.
— Гапи, — сурово спросила она, — где это ты шлялся третьего дня?
Рулевой потер ладони, глаза у него так и бегали — с балки на наличник, на слюдяные крашенные вставки в свинцовых перемычках, из которых складывался витраж, на сглаженные сотнями ладоней подоконники, на каменную кладку под ними.
Он кашлянул.
— Да так, Красное Копье... там да там... вот и ночь прошла…
— Смотри на меня, — приказала Гвиневра.
Гапи глянул мельком — северные серые глаза с рыжими брызгами, словно на камне пророс мох.
— Ты ходил с Ланселотом, — сказала она. — Артур знает тоже. Кто еще ходил?
Гапи сдался без боя — отпираться перед Гвиневрой значило отхватить розог, когда поймают на вранье. Команда крепко это помнила.
— Ну... Хальвдан, Свен…
— Еще кто? Отвечай.
— Да все ходили, Красное Копье.
Такого ответа Гвиневра и ждала, но отчего-то слова вышибли из нее дух.
Она тяжело села и сложила руки на коленях.
Вот, значит, как.
— Ладно. Ступай.
Гапи помялся еще для порядка.
— Мы как лучше думали сделать, Красное Копье. Думали, ты одобришь. Если нет, ты скажи, мы больше...
— Гапи, — рыкнула она. — Ступай. Сделали, как совесть велит. Хотя погоди, — окликнула Гвиневра уже у двери. — Где его найти?
— Девчонка знает, Красное Копье. Та, беленькая, из деревни, может, вспомнишь…
— Элейн?
— Она, точно. Она нас водила. Я-то леса не знаю, нам с ребятами все кусты одинаковые, а девчонка про каждый сучок расскажет.
Может быть, с досадой думала Гвиневра, может быть, мне с самого начала следовало хотеть его найти.
***
Снегоступы вышли лучше некуда: легкие и прочные. Руки помнили куда лучше головы: стоило только согнуть одну ивовую ветвь — а там дело само собой пошло на лад. Сетку из сухожилий она сплела на одном дыхании, густо смазала каждый участок свиным жиром, чтобы не налипал снег. Только ладони стерла с непривычки — а может, не стерла бы, если бы плела их с меньшей ненавистью ко всему живому.
С вечера она привязала снегоступы к подошвам меховых сапог, с холодными мокрыми ладонями дождалась, пока в Камелоте погасят огни, наскоро оделась и выбралась из города — ровно перед закрытием ворот. Карта была у нее в голове, Медведица — в небе.
С непривычки скрипели, ныли задеревеневшие от праздной жизни мышцы. Бежать было труднее и не так резво, как на лыжах, но на лыжах по такому снегу она рисковала увязнуть чуть не с первого шага. Гвиневра быстро приноровилась и преодолела укрытые толстым покрывалом поля, рощицы, разделявшие их на неравные части, нырнула в густой нехоженый лес. Замотала лицо шарфом, чтобы не жгло морозом — в ясную ночь он впивался в открытую кожу вдесятеро крепче. Краем глаза заметила гложущих кору зайцев, те порскнули прочь, стоило хрустнуть снегу. Гвиневра ринулась вглубь, петляя между кустарников и ныряя под широкие ветви и свисающие паутину и мох. Бегло отметила усыпанные шишками вершины деревьев. Тропу — если она и была — завалило снегом. Ночной лес понесся навстречу; словно щиты, сдвинул ряды падубов и елей за ее спиной. На редкие проплешины меж ними ярко светила полная луна. Гвиневра подняла глаза. Черное полотнище неба манило разбросанным серебром. В Норвегии оно бы сейчас цвело и повсюду лежало бы розово-зеленое зарево...
Ланселот темной глыбой обрушился прямо перед ней — так, что она с маху налетела на него и едва не переломала снегоступы.
— Чтоб ты пропал! — от неожиданности Гвиневра крикнула громче, чем хотела бы. Разгоряченная бегом, она как будто еще мчалась под падубом и иссиня-черным полотнищем неба, а не выворачивалась из крепкой хватки Ланселота. — Жить надоело?!
— Это тебе надоело, — он разжал руки. — Одна среди ночи — здесь!
И вместо того, чтобы обрадоваться, Гвиневра — в ушах еще гудит кровь, в крови бродит бег, ноги сами собой несут вперед, сердце выстукивает «скорей, скорей!» — напустила надменный вид, словно пришла не упрашивать, а повелевать.
— Кто посмеет напасть на королеву в ее владениях?
Ланселот слегка встряхнул ее.
— Это владения диких зверей, им дела нет до твоей короны.
Гвиневра рывком высвободилась. Переступила с ноги на ногу, проверяя на весу, целы ли снегоступы. Целы.
— Мои люди были у тебя. — Ее тон требовал объяснений. Извинений. Плохо.
Ланселот чуть развел руками.
— Прости нас за это.
— И когда ты мне собирался сказать?
— Я не собирался.
— Думал, я не узнаю?
Они наконец-то сошли с места, Ланселот пошел чуть впереди, показывая невидимую дорогу между соснами, чьи широкие переплетенные лапы задержали снег и отчасти холод. Под ногами хрустела едва присыпанная старая хвоя и сучья. Гвиневра размотала шарф, подставила воздуху мокрую шею, сняла снегоступы, перевязала кожаным ремнем и перекинула через плечо.
— Думал, они уйдут, тогда рассказывать не придется, — не оборачиваясь, пояснял Ланселот. — Я говорил, чтобы уходили. Я умею только убивать, Гвен, я не полководец, не предводитель, это остается Артуру.
— Они сами разберутся, кому и что оставить. Артуру подчиняться они и не думали.
— Но тебе не нравится, что они здесь были.
— Кому такое понравится! — сердито бросила Гвиневра. Непросто было говорить с его спиной.
— Я не пойму, ты злишься — или ты одобряешь, поэтому злишься?
— Я злюсь! — рявкнула она, но тут же остыла. — Знаешь, кто нападал?
— Знаю. Троицына стража. И какие-то северяне — твои люди сказали, из ваших земель. Мы выследили пять отрядов и убили всех.
— Зачем Нидаросу союз с Папой? — Гвиневра нахмурилась. — Рим слишком далеко чтобы завоевывать и чтобы платить дань.
— Отступники? — предположил Ланселот. — Ловцы удачи? Пираты?
— Они сказали что-нибудь? Вы ведь взяли пленных?
— Воинам Троицы отрезают языки, — Ланселот усмехнулся через плечо. — Как раз на такой случай.
Теперь, когда в голове прояснилось, тело перестало гудеть, остыло, и мокрой от пота спине стало холодно, Гвиневра поняла: плохо было не то, что она потребовала объяснений, а то, что она совсем не ощущала радости, глядя на Ланселота. А сколько передумала, пока плела эти снегоступы, сколько перебрала слов; и вот все они вылетели из головы в первое мгновение, а потом уже опоздали.
— Прости меня, — не зная, чем еще исправить содеянное, позвала она и испытала обморочное почти облегчение. — Не знаю, почему я требую объяснений, когда пришла просить прощения.
Ланселот повернулся и молча раскрыл ей объятия.
Она сбросила с плеча снегоступы и напрыгнула, как рысь. Обхватила ладонями голову, пригнула к себе. Ланселот наклонился, Гвиневра поднялась на носки — одним движением они нашли губы друг друга. У нее вырвался глухой нутряной стон наконец разрешившейся тоски. Ланселот подпер ею дерево, подпер ее собой, хрустнули сучья, хрустнула кора, Гвиневра обняла его, оставила ему раздевать ее — насколько будет удобно. Руки срывались, не могли подцепить ни застежку, ни пряжку, Гвиневра зубами схватила меховой палец его рукавицы, дернула — на этом изнемогла с подсказками; ее рукавицы упали в снег, капюшона на нем давно уже не было, и знакомое ощущение крестообразного шрама под ладонью заставило ее содрогнуться от предвкушения.
— Сними, — взмолилась она и сама удивилась, до чего жалобно звучит голос, — сними с меня уже что-нибудь...
Он издал какой-то согласный звук. Гвиневра изогнулась, как пьяная, штаны сползли на бедра. Ее ноги оказались у него на плечах, он вошел резко, торопливо, Гвиневра сморщилась и вскрикнула, после долгого воздержания это было болезненно, слишком грубо, слишком тесно. Она запрокинула голову, ртом ловила холодный возлух, ладони Ланселота подхватили ее под ягодицы, ее швырнуло в жар с такой силой, что застучали зубы; там, внизу, все плавилось, растекалось, набухало, трепетало; ей свело челюсти, затылок, шею, руки и ноги будто исчезли, она с трудом разлепила губы, но не издала ни звука; Ланселот напрягся в ее объятиях, болезненная острая судорога скрутила ее изнутри, разлилась по телу, еще одна и еще.
Когда все закончилось, она лежала с раскинутыми руками, мелко дрожа и разевая рот, словно рыбина, выброшенная на берег бурной волной, а над ней плелись черные в черном ветви. Потом ее подняли на руки и понесли.
Его логово в дебрях кустарника под крышей из коры, плотно застеленное валежником и присыпанное снегом, изнутри казалось настоящей берлогой. Гвиневра поднялась на локоть, подперла кулаком висок, осмотрелась: котел с талой водой, две соленых рыбины под потолком, вязанки каких-то трав, ветошь, еще котел. Лежанка из лапника дышала хвоей всякий раз, когда она шевелилась, чтобы удобнее было рассматривать; медвежья шкура, должно быть, совсем недавно принадлежала шатуну.
Ланселот ворошил угли в земляном очаге. Свет поднимался снизу вверх, обрисовывал его лицо, борозды чернели на огненно-красной коже. Теперь она наконец его рассмотрела. За время добровольного изгнания у него отросла борода — темнее волос, мягкая и короткая, какие отрастали через год плаваний у юнцов, которых брали на драккары обучать морскому делу.
— Очень по-монашески, — вполголоса заключила она и потянулась. Снова запахло хвоей — уже менее отчетливо, ее нюх привык. — Не спросишь, спала ли я с Артуром все это время?
Ланселот поднял на нее глаза.
— Нет у тебя жалости. — Он вздохнул. — Не спрошу. Не хочу знать.
— Я не спала с Артуром, — с вызовом сказала она.
Ланселот внимательно посмотрел на нее, но понять, о чем он думает, было невозможно.
— Что ж, — медленно сказал она. — Очевидно, что и я ни с кем не спал.
— Медведи? Орлы? Ваш народ отличается…
Он рывком повалил ее на спину и зажал рот ладонью.
— Гвен! Ну что ты за женщина!
Она впилась зубами, вывернулась и села.
— Это не в моем народе говорят, будто первого из нас богиня зачала с волком!
— Один из твоих богов зачал восьминогого коня от жеребца!
— В облике кобылы, дубина!
Он потряс головой. Потом засмеялся. Потом целое мгновение Гвиневре казалось, что он снова признается в любви, но этого не произошло. Она не понимала, должна ли почувствовать разочарование.
— Мне тебя не хватало, — сказал Ланселот и вернулся к очагу. Его тепло осталось на ее коже.
Гвиневра улыбнулась и искренне созналась:
— Мне тебя тоже, — она ахнула, спрыгнула с постели, торопливо сплеснула в очаг вина из своей фляжки и про себя трижды прошептала просьбу.
— Кому ты молишься?
— Фрейе.
— А о чем?
— Не твоего ума дело.
— Ладно, — он рассмеялся, повернулся спиной, чтобы взять еще щепок для очага.
Гвиневра нахмурилась, тронула пальцами его лопатку.
— Этот я не помню. Он новый?
Ланселот поворошил угли.
— Новый. Проклятье, никак не займется...
— Зачем?
— Покаяние. Обещание вырвать… — он запнулся. — Обещание снова стать преданным другом Артуру и оставить тебя в прошлом.
— Ланс, — очень серьезно сказала она, — я тебе уже говорила: сними рясу или сложи меч. Ни один из нас от другого не избавится. Тебе лучше это принять.
— Знаю. Потому и шрам всего один.
Она прильнула губами к красноватому следу. Он был другим, очень нежным, непохожим на грубые бугры застарелых рубцов.
— Зачем ты его оставил? — спросила между поцелуями.
— Чтобы помнить о собственной глупости.
Утром он трижды проверил ее снегоступы, сам затянул крепления.
— Не хочешь вернуться в Камелот? — спросила Гвиневра.
— Пока нет.
— Знаешь, что они придумали? Носят ко мне младенцев и просят подержать на руках. Говорят, я спасла их от голода, а значит, приношу удачу. Мол, если возьму на руки новорожденного, то он за всю жизнь не будет голодать.
Она схватила Ланселота за пояс, дернула к себе. Как прежде, он не угадал ее молниеносного движения и рывком подался вперед.
Ничего не изменилось. Ничего. Ей захотелось смеяться. Гвиневра запрокинула голову и ощутила на лице дыхание Ланселота.
Chapter 6: Март
Chapter Text
На исходе зимы умер Мерлин — непредсказуемо и ожидаемо глупо: заснул пьяным в какой-то пещере в оттепель, а ночью ударил заморозок. Когда деревенские собаки лаем пригнали мальчишек, его тело уже заиндевело.
Артур отправился с утешениями к Хозяйке Озера. Утешения могли стать бесконечно долгими.
Тронный зал не принес Гвиневре радости. Весна не принесла ей радости. Снег, надежно укрывший озимые посевы, не принес ей радости. Пропаренная земля, над которой показались легкие всходы, едва этот снег растаял, не принесла ей радости. Ее драккар — обновленный, красивый, сияющий новыми бортами на молодом солнце, не принес ей радости, хотя Гвиневра сама отогнала его из заводи ближе к устью. Рулевое весло поддавалось легко, полноводный в таяние снегов Аск пропустил ее беспрепятственно. Она видела, какой радостью для ее людей — теперь уже сорока шести, без Пим и тех троих, кто завел семьи в городе — было даже просто сесть на весла, слаженно опустить их в воду, слаженно поднять. Слушая, как они поют, налегая на весла длинными, довольными движениями, она думала: возможно, следует отпустить хотя бы их...
Когда ей сказали, что прибыл северянин по имени Мордред с дарами, она усомнилась; но нет, Мордред и впрямь явился к ней в тронный зал с мешком, закинутым на плечо. Такой же высокий, каким Гвиневра его запомнила, только теперь его лицо было покрыто паутиной синих защитных рун, а праздничный наряд был расшит золотой нитью и выкрашен в кармин.
— Я привез тебе даров, Гвенхвивар, значение которых ты одна сумеешь оценить!
Он раскрыл мешок и вывалил его содержимое перед ступеньками трона.
Она поняла не сразу. Смотрела на когти, на перья, на отрезанные копыта и длинные уши, на змеиную кожу, чешуйки которой мертво поблескивали под волосами скальпа. Потом медленно догадалась: это стражи римской дороги.
Слова Ланселота о союзе северян и Троицыной стражи вспыхнули у нее в голове. Собственные слова о том, что этой дорогой к Камелоту можно дойти, как по маслу, вспыхнули тоже.
Гвиневра вонзила ногти в ладони. Они выбрали не того человека на тинге, ужаснулась она; или, напротив, того самого.
— Я отреклась в твою пользу, Мордред. Зачем ты преследуешь меня здесь?
— Нет, ты не отреклась. Ты поджала хвост и удрала, когда взглянула в лицо междоусобице, которую сама же заварила, да еще привела с собой наемников! Думаешь, в Нидаросе кто-то помнит тебя добрым словом? Думаешь, кто-то хочет, чтобы твои ублюдки от демона в рясе или от этого самозваного короля однажды предъявили права на Нидарос и повторили твой подвиг? Да половина страны восславит меня за то, что я перережу твою спесивую глотку, а вторая пришлет мне благодарственные дары. Но я пришел только предупредить, Гвенхвивар — тебя, твоего мужа и твоего демона. Условия вам поставят другие.
— Камбер и его дочери приговорили себя, когда вмешались в дела Британии и Пендрагона-самозванца, — цепенея, проговорила Гвиневра. Она была совсем одна, стражам еще нужно открыть двери, выхватить оружие, а Мордред стоит в трех шагах от нее.
— Камбер вмешался по праву крови, ты не смеешь его винить. А вот ты, ты, по какому праву на троне расселась ты, по какому праву именуешься королевой, Гвенхвивар Убийца Родичей?
Она взвилась на ноги, но замешкалась — на платье иначе лежал пояс, иначе висел нож — и этого хватило, чтобы Мордред опередил ее, схватил за шею, рывком сдернул с места, волоком стащил по ступеням, ведущим к трону, швырнул вперед. Гвиневра с маху приземлилась на ладони и колени, от удара, казалось, в ней сшиблись все кости, как сшибаются копья и щиты, пошли трещинами и загудели; она встряхнула головой, но от этого только сильнее зазвенело в затылке, а Мордред уже наклонился к ней, схватил за гребень в волосах, задрал голову.
— Что, сука, не такая уж ты теперь королева? Выставила зад, как самая обычная девка, и ждешь, когда кто-то вскарабкается на тебя?
Гвиневра мягко пригнулась, завалилась на бок, поджимая ноги, резко выбросила обе ступни и ударила его в голень. Мордред упал на колено, в руке у него остался гребень и приличный клок ее волос. Зато Гвиневра почуяла свободу. Она вскочила на ноги, кулаком врезала Мордреду в челюсть. От злости мелко-мелко тряслась каждая жилка. Мордред упал на спину, Гвиневра выхватила нож из-за пояса, придавила острием артерию на шее.
— Что, ублюдок, не такой уж ты победитель?
Распахнулись двери — вечность прошла — в зал вбежали стражи, и она, как деревянная, разогнула колени, встала, с ножом в руках смотрела, как Мордреда тащат прочь из зала.
— Пошлите кого-нибудь к Артуру, — она потерла запястья. — Скажите, я знаю, с кем объединился его враг.
Ланселот пришел ночью, держа в руках белый сверток — даже в темноте его белизна казалась ослепительной и не принадлежащий земному; прижимал его к груди так бережно, что у Гвиневры екнуло сердце. Она вскочила, готовая звать на помощь, но Ланселот покачал головой.
Гвиневра затеплила свечу. Он не произнес ни слова. Опустился на колени, сел, приподнял сверток, в котором Гвиневра начала различать очертания человеческого тела — слишком маленького для взрослого. Она прижала ладонь ко рту.
— Персиваль?
Ланселот покачал головой.
С белого свертка упал край покрывала, и Гвиневра увидела нежное белое личико с едва заметными бровями.
— Я нашел ее сегодня неподалеку от моего дома, — наконец сказал Ланселот. — В этом саване. Только потому что она была со мной добра.
Он зажмурился, как если бы пытался сморгнуть слезы, но пепельные полосы на его лице оставались сухими, как и глаза. Плачущий Монах не мог плакать.
На рассвете они уложили Элейн в лодку, Гвиневра вложила в ее окоченевшие маленькие руки букет из первоцвета, пролески и морозника. Ланселот по пояс в ледяной воде провожал лодку, пока не убедился, что ее подхватило верное течение.
— Они знают, где ты, Ланс, они за тобой придут.
Он не сводил глаз с одетого в белую дерюгу девчоночьего тельца на дне лодки. Смерть и высокие борта сделали Элейн еще меньше, чем при жизни. Белые волосы продолжались ее саваном. На тонкой длинной шее остались синяки от рук, которые ее и переломили.
— Я жду.
Chapter 7: Апрель
Chapter Text
Артур ходил по залу, заложив руки за спину, кусал губу. На подбородке у него пробилась черная щетина. Глаза запали. Жесткие черные волосы были мокрыми, от него пахло тиной — значит, несмотря на зиму, ходил к озеру, входил в озеро, где его ждала женщина с холодной кожей.
Гвиневру вдруг затопили сочувствие и острая жалость, что они не могут сесть вдвоем, бок о бок, и обсудить, как во времена до битвы за Ледяной трон, каждое действие. Тогда между ними не было недомолвок, непонимания, вражды. Любила ли она его тогда? Несомненно, но любовь многолика. Достаточно, чтобы выйти замуж? Навряд ли.
Она подумала, что Ланселот тоскует о чем-то похожем — о невозвратных временах, когда они с Артуром бок о бок, акр за акром собирали новую Британию вокруг Грамейра, который не был еще Камелотом… по совести, это они вдвоем должны были превратить Грамейр в Камелот. Гвиневра заняла чужое место, потому что Артур вовремя не оказался на своем.
— Ты уже знаешь? — спросил Артур. Впервые за долгое время она не услышала в его голосе злобы — только печаль и потерю. — Красные Паладины объединились с саксами и северянами и высадились на восточном побережье. Жгут и жнут на своем пути к Камелоту все, что можно пожинать и жечь...
— Я видела посланников.
Артур развел руками, беспомощным жестом указал на единственное сиденье — собственный трон. Гвиневра, поколебавшись, села на подлокотник. Артур заложил руки за спину, несколько мгновений они мерили друг друга взглядами — два человека, которые могли стать лучшими друзьями, если бы не спутали благодарность с любовью.
— Ну, скажи что-нибудь, — сердито разорвал молчание Артур. — У тебя всегда слово наготове.
— Не я с ними говорила. Что я скажу?
По правде говоря, она стояла за колонной и слышала все от слова до слова.
— Вас мало, король Артур. Твои люди не воины. Они кожевники, пахари, менестрели, нелюди с гор и из лесов… они не умеют сражаться.
— Но мы победили двух королей — здесь и на континенте — руками кожевников и пахарей.
— Ты победил, потому что у тебя были воины твоей королевы. Теперь их нет. И нет твоего демона в рясе, чтобы держать в страхе твоих врагов. Твоя надежда построить союзы зыбче тумана. Прояви благоразумие, король Артур, пока Рим еще говорит с тобой.
— Долго ли осталось твоему Риму.
— Достаточно, чтобы низвергнуть тебя, король Артур, вместе с твоими детьми дьявола. Большего не нужно праведным людям.
— Праведная дорога редко бывает гладкой. Идти по ней тяжело. Но как же иначе быть? Мы можем найти и другое решение. Заключить новое соглашение. Выдай нам отступника, предателя, мы разберемся с ним по законам святой матери Церкви, тогда умрут не все. Женщины, дети, старики могут уйти...
Артур почесал нос. Откашлялся. Гвиневра отстраненно подумала, какие благородные и тонкие у него черты лица. Поразительно, чтобы таким лицом боги наделили вора, сына деревенского пьяницы.
— Что смеешься? — подозрительно спросил Артур и тут же отбросил это. — Папа Авель скончался. Папа Анастасий объявил против нас крестовый поход. Их условия просты — мы должны сдаться или умереть. У них пятьсот воинов Троицыной стражи. Пятьсот! С тремя сотнями они брали города…
Гвиневра нахмурилась.
— Троицына стража так страшна, как все говорят?
— Ланселот тебе не рассказывал?
Она покачала головой с ощущением, что Артур только что пробил брешь в ее доспехах. Но, судя по лицу, такой цели не имел.
— Они знатно искромсали его в ту ночь, когда он спас Персиваля. Тогда они подружились. Персиваль вез его через весь остров, побирался в деревнях, искал каких-то знахарок и городских шарлатанов, надеясь, что те подлатают… Но Ланселота может вылечить только сама земля, про это знаешь?
— Про это знаю.
— Он привез его ко мне в лагерь скорее мертвым, чем живым. Половина моих воинов хотела содрать шкуру с полутрупа, а вторая половина — с его спасителя. Уже не помню, как я их утихомирил.
— Я никогда не помню, как командую в бурю, — усмехнулась Гвиневра и закусила губу. Кашлянув, поправилась: — Как командовала.
Ей показалось, что в глазах Артура мелькнуло раскаяние. Не он отнял ее драккар; но им обоим слишком часто казалось, что именно он.
— Словом, они умолкли, и Ланселот выкарабкался, хотя, если верить моим лекарям, он скорее напоминал драный мешок, полный перебитых костей.
Гвиневра почувствовала, что улыбается.
— Он всегда выкарабкивается.
— Верно. Ну, так что ты скажешь?
— Дромоны Беовульфа, как я понимаю, не придут?
— Мне следовало сразу понять, что его посулы — это просто попытка спровадить меня поскорее. Но его племянник, Хольгер, ведет мне в помощь двадцать одну сотню воинов. Я получил письмо с птицей, они должны войти в устье Аска завтра. Ну?
— Ты знаешь, что я всегда предпочитаю драку. Ничего во мне не изменилось, Артур, пусть между нами изменилось все. Дадим им бой там, где выберем сами, пока есть из чего выбрать.
Он кивнул. Экскалибур висел на спинке трона, рукоять выглядывала из-за подголовника. У этого меча давно не было славных битв, но ждет ли он новой?
— А что говорит… она?
Артур скривился.
— Нимуэ мало говорит со мной в последнее время. Мы… больше не близки. Не так близки, как вы с Ланселотом.
Гвиневра в удивлении взглянула на него.
— С тех пор, как Мерлин уснул, она вообще мало говорит. Не думал, что он для нее так много значил.
— Мы не в состоянии понять чье-то значение в нашей жизни, — сказала Гвиневра, пристально рассматривая свои руки, — пока мы этого не лишимся.
Артур не ответил, но Гвиневра почувствовала, что он кивнул.
Солнце почти село. Красное зарево тронуло витражи в стрельчатых окнах, и тронный зал Камелота показался Гвиневре полным крови, как по дороге к Ледяному трону. Она моргнула и сделала знак, отвращающий зло.
Поднялась на ноги, подошла к столу. Разлила вино и вернулась с двумя полными чашами в руках. Артур принял свою, уселся на верхнюю ступеньку возле трона. Гвиневра устроилась рядом. В молчании они сдвинули чаши, и это было лучше любого прощения.
***
Артур выбрал поле под названием Камланн; Гвиневра бы его не выбрала: слишком широкое, слишком простое, негде схитрить. Посреди поля стоял камень, исписанный рунами. Моргана сказала, что когда-то здесь был храм Сокрытого, только кроме камня, который больше не говорил ни с живыми, ни с мертвыми, ничего не осталось.
Но Артур выбирал из того, что осталось, а хитрость, к которой они не могли прибегнуть, римлянам и северянам была так же недоступна.
Утром последнего дня апреля они выстроились напротив друг друга, солнце недолго плясало на щитах и шлемах; скоро ему не останется места.
— Монах, — благоговейно зашелестел воздух. — Плачущий Монах...
— Ланселот.
— Ланселот! Ланселот!
Его имя нарастало вокруг, поднималось все выше. Гвиневра слушала, и в груди у нее гремел барабан.
Он шел сквозь ряды людей и фэй, одетый в истрепанные одежды Плачущего Монаха, а оба народа уже вопили и ревели его имя. Он ведь воевал с Артуром, вспомнила Гвиневра, здесь и на континенте; воевал до того, как Артур отнял для нее Ледяной трон, на который Гвиневра так и не села; воевал и ни разу не просил платы за свою кровавую славу.
И ни слова не сказал, когда Гвиневра поселила его в доме на краю Камелота.
Потому что она уже тогда знала, что придет к нему в этот дом, серая, как все ночные кошки. Знала с того мгновения, как впервые увидела его, а может, еще раньше.
Он подошел к Артуру, спокойно опустился на колено и положил к его ногам Меч Веры.
— Мой король.
— Ну, теперь-то, — над ухом Гвиневры произнес Гапи, — мы драться будем, Красное Копье, будто нас выпустили из царства Хель!
Артур поднял Меч Веры, вернул его Ланселоту. Он сиял. Ланселот занял место рядом с ним. Гвиневра протиснулась вперед.
— Рождаемся на рассвете, — прошептал Ланселот, глядя на темный впереди поток.
— Чтобы уйти в сумерках, — ответила Гвиневра. Она смотрела в том же направлении и, когда барабан в груди поутих, ровно проговорила: — Я люблю тебя. Знаю, ты меня тоже. Говорю на случай, если мы из этого не выберемся. Молчи, а то все испортишь.
Он не посмотрел на нее. Даже не улыбнулся. Только крепко стиснул ее пальцы.
Крест в рукояти, которая была вдвое больше даже ее раздавшейся от войны и работы ладони. Она знает эту тяжесть, хотя лишь раз брала его в руки.
— Это же Меч Веры.
— Я свой собственный Меч Веры. Бери.
Она стояла и моргала, как курица, и Ланселот демонстративно заложил руки за спину.
— Только не потеряй, — он засмеялся. — Я к нему привык.
Армии двинулись навстречу друг другу, почти побежали, когда посреди поля поднялся дым, пепел полетел в обе стороны; воины закрылись руками, замедлили шаг, встали, терли слезящиеся глаза.
Моргана откинула вуаль. По темному мрачному лицу то и дело пробегали искры, оставляя за собой темно-пепельный след, очертаниями похожий на череп. Он осыпался, снова являл смуглое женское лицо с черными провалами на месте глазниц.
— Стойте, — замогильным голосом велела Моргана. — Я Вдова. Я могу каждому назвать его час, но ваш час сегодня. Ты умрешь, — она вслепую ткнула в сторону саксонского войска, потом — в одного из стражей Троицы. — И ты. А вы вдесятером. С этого поля никто не уйдет живым. А кому не перережут горло, того заживо втопчут в землю, пока он не захлебнется кровью убитых. Дайте вашим вождям поговорить еще раз. Вложите мечи в ножны, пока они не закончат.
В траве мелькнуло упругое, переливчато-черное тело змеи, солнце выглянуло и ударило прямо в нее, засияло на каждой чешуйке, чтобы никто не упустил из виду, и кто-то из фэй в первом ряду выхватил из-за пояса длинный загнутый нож.
А следом напряженные шеренги ощетинились тысячами клинков.
Они боролись друг с другом за это поле, выигрывали, проигрывали, теснили друг друга к краям и накатывали снова. Запел Экскалибур — не запел даже, завопил имена своих богов, своих кователей, своих жертв; это многоголосый хор, как гигантская пасть, раскрылся над Камланном. Он же не просит смерти в руках Артура, подумала Гвиневра; пригляделась и поняла, что Экскалибур и не в его руках — в руках Ланселота.
Кто-то выскочил прямо ей под ноги, на скользкой траве Гвиневра споткнулась, упала на колено. Она с трудом могла поверить, что страж Троицы может быть таким щуплым, таким мелким — и пока она удивлялась, этот страж вскинул лук и выпустил стрелу в Ланселота. И еще одну.
Она бросилась на эту фигурку всем весом, сшибла с ног — или не сшибла, или этот стражник упал за мгновение до ее прыжка — сшибла и ударила, золотая маска отлетела в сторону, Гвиневра ударила снова, била, била, пока ее кулак не начал проваливаться в мягкое, пока не хрустнуло — лицевая кость или ее костяшки, новой боли она не ощутила, но тут болит все. Кто-то схватил ее, Гвиневра отшвырнула, снова обрушила кулак, ее снова схватили, кто-то кричал ей прямо в ухо:
— Она мертвая, совсем мертвая, хватит, хватит!
Персиваль.
Тогда она наконец увидела, что это девчонка, у которой половина лица в следах ожога, а из груди торчит древко обломленной стрелы. Глаза девчонки были полны ненависти.
Гвиневра подняла голову.
Ланселот так мельницей и прокладывал себе путь сквозь ряды саксов и Троицыной стражи, как сама смерть. Она видела, как рубит Экскалибур все на своем пути — кожу, плоть и сталь, как вспыхивает клинок, слышала, как он поет, кромсая древки копий и руки, что их держат; воины валились перед ним — безголовые, разрубленные; устрашенные падали на колени и все равно умирали, Экскалибур пожинал их, словно серп. Ланселот шел сквозь копья, щиты и и чужие тела, а за ним клином, расширяясь, тесня к обрыву и к холмам, вонзались воины Камелота.
Теперь она понимала, чем он внушал такой страх и беспрекословное подчинение.
Она поднялась на ноги. Руки гудели. Мертвая девчонка с обезображенным ожогами и ее кулаками лицом лежала у ног. Гвиневра уперла подошву сапога ей в бок, столкнула с дороги, наклонилась, подобрала меч и побежала вперед.
Когда все было кончено, Экскалибур замолчал. Словно его внутреннему духу перерубили горло. Словно он захлебнулся наконец-то в крови, которой его напоил Ланселот.
Над Камланном висела кровавая взвесь, как мошкара над болотом. Редкие выжившие слонялись в ней. Склонялись, когда, казалось, находили знакомых — и, равнодушно оставив чужаков, шли искать дальше.
Когда кровавая взвесь осыпалась, Гвиневра увидела Ланселота. Обрывки монашеских одежд свисали с него, как свисают пелена с детей нищих — тяжелые, мокрые, обметанные коркой по краям, наверняка смердящие. Словно он родился из саксонской и римской крови и весенней грязи среди этого поля.
До сих пор ей казалось, что так поют только в сагах ее родины: горы трупов высятся вокруг непобедимого героя.
Он вырвал Экскалибур из чьего-то тела — у Гвиневры свело челюсти от влажного хруста — и поволок себя через нагромождения тел, перебираясь через них, переползая, путаясь в сплетенных руках и ногах, запинаясь о щиты и нагрудники.
Она пыталась понять его цель, тогда можно было бы подобраться к нему, поддержать, помочь — но не понимала, что он хочет сделать.
Ланселот дотащил себя до камня, выступавшего посреди поля, с усилием всадил в него клинок и рухнул на землю.
Гвиневра беззвучно закричала.
Когда Персиваль добрался до Ланселота, затормошил его, осыпая бурным и бесконечным потоком слов, ей захотелось упасть на колени и плакать. Но она не упала и не заплакала, только смотрела, как Персиваль, рыча и завывая, рывками волочил Ланселота через тела, и стыла на месте, будто вросла ногами в землю, а руки ей примотали к телу. Ему наконец-то бросились помогать, Ланселота подхватили, понесли. Тогда Гвиневру сорвало с места, она подлетела к нему, наклонилась — и не узнала. Лицо в черной корке пыли, застывшей поверх крови, не видно ни пепельных борозд, ни следов — одни только серые, неестественно яркие глаза.
Она не успела ничего сказать.
— Красное Копье, — настойчиво окликнули ее. Голоса Гвиневра не узнала, но пошла на голос — не могла не пойти.
— Мы нашли его, Красное Копье.
Артур не шевелился. Он был мертв. Смуглая кожа уже начала синеть на веках и вокруг губ.
— Отдайте его озеру, — сказала Гвиневра. — Отнесите туда, положите на берег... пусть сама решит.
Она нагнулась и прижалась сухими губами к холодному лбу Артура. Больше у нее ничего не было.
— Итак, твой король умер, — раздалось совсем близко от нее. Гвиневра подняла голову: бородатый Хольгер Датчанин, опершись на длинную рукоять своей секиры, обращался к Моргане, чудовищно ломая слова — так, что едва можно было разобрать, какое он пытается произнести.
— Но жив мой народ.
— Ты можешь взять свой народ с собой, — великодушно разрешил Хольгер. — Он малочислен… один город или того меньше.
— Учти, Хольгер Датчанин, мне не нужен союз с мужчиной.
Он раскатисто расхохотался. Вороны с карканьем поднялись над трупами, заметались в воздухе и вернулись клевать падаль.
— Мне самому не нужен союз, который ты разумеешь, Вдова. У меня есть жена, и она принесла мне двух сильных сыновей. Может статься, принесет и других. Я не стану менять ее на тебя. Но у меня нет хорошего провидца, хотя много врагов. Вот что я тебе предлагаю, сестра мертвого короля. Решай. Беовульф по праву завоевания сидит на моем троне, но однажды он умрет. Все смертны.
— Не боишься умереть вперед Беовульфа?
— Это ты мне скажи, Вдова.
Моргана вперила в него долгий взгляд. Слой пепла снова осыпался с ее лица.
— Нет, — сказала наконец. — Беовульф умрет первым.
Хольгер довольно оскалил крупные крепкие зубы.
Гвиневра оторвалась от них, склонилась над Ланселотом. Полуприкрытые веками, его глаза не отрывались от нее.
— Гвенхвивар, — позвал он.
Персиваль схватил его за руку, с силой прижал к напитанной кровью земле. Конечно. Конечно. Сейчас под кожей, повторяя рисунок вен, сплетутся зеленые ветви, и он поднимется на ноги, невредимый и полный сил...
Бледная ладонь Ланселота осталась бледной. Безучастной.
Что-то не так, поняла Гвиневра. Внутри у нее все скрутило от ужаса, во рту появился привкус желчи, неудержимая тошнота вывернула ее наизнанку прямо на чей-то труп. Трясущейся рукой Гвиневра отерла рот, зубы скрипнули, смыкаясь. Что-то не так.
Она подняла глаза на Моргану.
Вдова еле заметно покачала головой — это означало, что смерти Ланселота она не чувствует.
Тогда почему, почему...
Столько смертей — одной больше, одной меньше в этом океане, даже Вдове не распознать…
Гвиневру затрясло от этой мысли.
Персиваль заплакал взахлеб.
Ланселот медленно улыбнулся, положил руку на голову мальчика.
— Я не умру, — проговорил хрипло и чуть улыбнулся. — Обещаю.
Персиваль зарыдал еще отчаяннее.
— Ну, — сказал Ланселот. — Ну…
— Я найду для тебя Грааль, — сквозь рыдания выговаривал Персиваль. — Пойду в Кэйбанног. Пойду...
Ланселот перевел взгляд на Гвиневру.
Она поняла все без слов.
Chapter 8: Май
Chapter Text
Когда прошли между рифов, берега раздвинулись, и устье Северна перетекло в открытое море. Парус медленно наполнился ветром, туго выгнулся над палубой, и гребцы втянули весла. Гвиневра передала руль Гапи и села рядом с Ланселотом, накрыла пальцами его обескровленную руку. Собственная кожа казалась неестественно темной. Бесконечное мгновение не удавалось понять, это ее рука так горяча или рука Ланселота незаметно остыла.
«Забери его туда, куда вы хотели уплыть, — так сказала Моргана. — Забери его и тех, кто пожелает следовать за вами, а остальных я заберу в новый дом, как предложил Хольгер. В этой оскверненной земле больше не спрячешься, мечту о Камелоте надо похоронить вместе с его королем».
Прошла целая вечность, прежде чем Ланселот открыл глаза. Сколько-то возвращался из небытия; потом перевел взгляд на Гвиневру и улыбнулся. Она придвинула ближе к нему Меч Веры — так, чтобы Ланселот мог дотянуться до рукояти, если захочет.
Море мягко ласкалось к бортам, несло драккар, как по зеркалу, словно не хотело потревожить бесценную ношу. Словно кто-то ему подсказал, как важно Ланселоту сохранять неподвижность, чтобы не растревожить раны.
Гвиневра пригладила его слипшиеся от пота и крови волосы, задержала руку на лбу. Ланселота лихорадило.
Он разлепил обметанные белым губы.
— Мы плывем? — спросил тихо.
— Да, милый. — Она скорее подумала это, чем произнесла.
— Куда?
Гвиневра наклонилась низко-низко — так, что даже глаз почти не видела.
— За море, — шепнула, словно кто-то мог их подслушать, и прижала пальцы к его губам. — Молчи. Ты слаб.
— Я не умру, — сказал Ланселот, совсем как Персивалю и тем же тоном. — Обещаю.
— Еще бы ты умер, — сквозь зубы прошипела Гвиневра. — Опять сбежать от меня хочешь?
— Нет у тебя жалости, — он слабо вздохнул и смежил веки.
Непонятно как она догадалась, что про себя Ланселот смеется.
Что-то впилось ей в горло, глаза опалило, лицо Ланселота исказилось, стерлось, и Гвиневра зажмурилась. Моргнула. Слезы упали точно в пепельные борозды и медленно стекли по щекам Ланселота. Гвиневра стерла их подушечками пальцев.
— Вот и есть, — сказала она ласково. — Вот и есть.



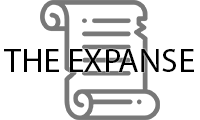





М. (Guest) on Chapter 1 Sat 04 Sep 2021 06:33PM UTC
Comment Actions
essilt on Chapter 1 Sun 05 Sep 2021 05:53AM UTC
Comment Actions
radistka on Chapter 8 Wed 18 Aug 2021 06:49PM UTC
Comment Actions
Сила Ньютона (fandom_Force_and_Strength) on Chapter 8 Thu 19 Aug 2021 05:02PM UTC
Comment Actions
Kaellig on Chapter 8 Fri 20 Aug 2021 07:35AM UTC
Comment Actions
Сила Ньютона (fandom_Force_and_Strength) on Chapter 8 Sun 22 Aug 2021 10:34AM UTC
Comment Actions
Anihir_Anihir on Chapter 8 Wed 25 Aug 2021 09:53PM UTC
Comment Actions
Сила Ньютона (fandom_Force_and_Strength) on Chapter 8 Thu 26 Aug 2021 07:12PM UTC
Comment Actions
LurrAntsanot on Chapter 8 Mon 04 Oct 2021 08:11AM UTC
Comment Actions
essilt on Chapter 8 Mon 04 Oct 2021 01:44PM UTC
Comment Actions